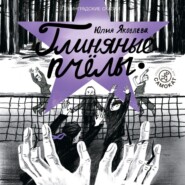По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Укрощение красного коня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дверь в квартиру открылась почти сразу. Будто Александр Афанасьевич поджидал. Обменялись улыбками. Молча прошли по темному захламленному старьем, сундуками, тазами коридору. Мимо дверей, за которыми обитали соседи. Александр Афанасьевич пропустил его в свою комнату. На полсекунды плеснул рокот разговоров и то неопределенное бряцанье, смешки, звон, стук, шорох, которыми всегда сопровождается пир. И дверь опять надежно защитила все эти милые звуки. Мягко чмокнула каучуковая лента-присоска, наложенная по всем четырем сторонам.
Пир уже радостно набрал обороты.
Его все приветствовали. Протягивали ему руки через стол. Полковые товарищи. Только они и не вызывали в нем ужас и отвращение, как все остальные люди, после той истории. Он пожимал руки. Быстро с улыбкой отвечал. Порхали смешки, обрывки разговоров. Он уже отодвигал стул. Ему уже наливали. Стукнулись бокалы. За длинным столом их уместилось больше дюжины. Шум переплетался с сизым табачным дымом.
– Ах, дорогой, повтори это еще раз и громко.
– Господин ротмистр! Еще наливочки?
На тарелках было что-то серое. Еда бедняков. Они все теперь бедняки, мелкая шушера – вахтеры, счетоводы, сторожа. Куда еще возьмут бесправного «бывшего», царского офицера? Зато тарелки, бокалы, скатерть, вилки, ножи – хорошего дома. А воспоминания – подлиннее и живее событий дня. Только и слышалось:
– А помните?..
– Господи, благослови вас, Шура, что вы серьезно занимались музыкой.
– Не меня! Не меня! – крикнул седоватый толстячок Александр Афанасьевич, Шура – князь Одоевский. Однополчанин. – Жену мою покойную. Она, бедная, музыку терпеть не могла. Нервы! Дверь пришлось везти из Италии вместе со скрипкой, – хохотнул он.
Все знали этот секрет: комната предназначалась для музыкальных упражнений хозяина, Шуры, князя Одоевского. Его после революции в нее и уплотнили – как в самую маленькую, скромную, почти бедную. Дуракам-пролетариям в голову не могло прийти, что отделка этой кельи обошлась Одоевскому дороже, чем будуар нервной супруги со всеми финтифлюшками. Стены, пол, потолок, дверная коробка – все было искусно изолировано от прочей квартиры. Тоже итальянский мастер работал, между прочим. Специально выписанный. Не комната получилась, а музыкальная шкатулка. Ни звука не могло из нее просочиться вовне: туда, в эсэсэрию.
– Что, можно и спеть?
И тотчас баритон громко затянул:
– Боже, царя храни! Сильный, державный!
Ткнули в бок, баритон закашлялся. Это вызвало новый взрыв веселья. Незамысловатые уютные шутки.
– Вы прервали большую оперную карьеру!
– Что?
Ему все-таки стало слегка не по себе. Как не по себе может стать человеку на стеклянном мосту: вроде и опора под ногами, но вдруг…
– А это не опасно? – Показал глазами на стены: соседи.
Шура захохотал. И сам же громко подхватил:
– Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам!
Звон бокалов не дал ему докончить. Радостно сталкивались над столом голоса:
– За тебя, дорогой!.. Ваше здоровье!.. Мир этому дому!.. За музыку! За твою скрипку! Что бы мы все без него делали!.. Эти наши собрания для меня – единственная отдушина… Лишь бы не в последний раз!..
Все тянули друг к другу бокалы. Все чокались. И он протягивал. И он чокался. Но вдруг отвел свой бокал. У толстого человека с круглой седой бородкой в ответ сразу напряглись плечи. Рука так и осталась протянутой, блеснуло пенсне на шнурке. Лицо гостя слегка побледнело, но он сделал вид, что не было оскорбления. Поднял бокал, приветствуя, доброжелательно выговорил:
– Что же это вы, Юрий Георгиевич? Далеко тянуться?
– Нет, – холодно отчеканил он. Голос теперь тоже был другой – настоящий. Не тот, что каждый день отвечал советским гражданам, принимая штиблеты: «Поглядим-с». Его собственный. Каждый звук по-петербургски отчетлив:
– Я с вами, господин Бутович, не имею охоты чокаться.
Никто в звоне, стуке, разговорах не заметил заминки. Но хозяин, Шура Одоевский, уловил сбой в весело и привычно работавшем механизме. Поспешил к обоим с бутылкой.
– У всех полны чаши? Всего вдосталь, господа? – Весело и гостеприимно он поглядывал то на одного, то на другого. Но под гостеприимством сквозила тревога.
– Не знал я, Шура, что ты пригласил сегодня одного нерукоподаваемого господина, видишь ли.
Лицо Бутовича окаменело.
– Полно, Юрий Георгиевич, – выговорил он. – Мы все теперь одно. Стоит ли петушиться?
Юрий Георгиевич вскочил так быстро, что разговор за столом разом умолк. Замерли ножи и вилки, застыли бокалы. Только тоненький дымок струился вверх из неподвижной сигареты в чьих-то пальцах.
– Не одно мы, господин Бутович. Я большевикам не служу. С комиссарами не якшаюсь. В отличие от вас.
– Я служу не большевикам! – разом вспыхнул Бутович. – Я служу лошадям! Если бы я не остался при конном заводе…
– В своем имении. При своем конном заводе, – презрительно поправил его Юрий Георгиевич.
– Я боролся не за свое имение.
– За свою шкуру, – последовало холодно.
– За лошадей! Да, я боролся! За орловского рысака.
Бутович обвел глазами стол, ища поддержки.
– Это… это нечестно. Вы прощаете другим. Карьеру при Советах. А мне – не прощаете? Или здесь другое? Что? Та история? Неужели та история?!
Но едва встречался с чьим-то взглядом, взгляд этот затягивался льдом. Поначалу они еще старались делать вид, что не замечают «слона в комнате», – ради драгоценной редкости их встреч, ради гостеприимного Шуры, ради их прошлого. Но теперь не скрывали чувств. Били презрением.
– Хорошо. Допустим. Признаю. В той истории я перегнул. Но сколько уже можно? Неужели вы не видите главного? Я их спас! Лошади не погибли! Великая русская порода не погибла! Линия великого Крепыша не погибла для России! Потому что я трудился. Боролся! А где все это время были вы, Юрий Георгиевич? Вспоминали своих никчемных американских метисов? Пили горькую и оплакивали судьбу?
Но молчание уже сковало комнату. Даже добродушнейший Шура глядел тяжело и осуждал, одновременно словно извиняясь – уже как хозяин перед гостем – за собственную ненависть.
Бутович встал, бросил салфетку, поймал рукой выскользнувшее стеклышко пенсне. И вышел из комнаты, когда-то давно, в другой жизни обитой итальянским умельцем звуконепроницаемой пробкой.
Вышел обратно в Ленинград 1931 года.
Глава 1
Ольга Дмитриевна снова переложила большую ватную рукавицу, на этот раз с правого края стола на левый.
– …И самое возмутительное, что эти так называемые специалисты не смыслят ни-че-го. Вы бы видели, что за материал они привезли! Уму непостижимо! И это на валюту!
Из ее слов Зайцеву следовало самому додумать, что валюту Советское государство в данном случае профукало.
Рукавица была похожа на огромную кухонную прихватку, только намного толще и длиннее. Трудно было представить, что Ольга Дмитриевна натянет ее на свою худую руку и пойдет трепать, кружить на рукавице очередного пса, сомкнувшего челюсти.
Пир уже радостно набрал обороты.
Его все приветствовали. Протягивали ему руки через стол. Полковые товарищи. Только они и не вызывали в нем ужас и отвращение, как все остальные люди, после той истории. Он пожимал руки. Быстро с улыбкой отвечал. Порхали смешки, обрывки разговоров. Он уже отодвигал стул. Ему уже наливали. Стукнулись бокалы. За длинным столом их уместилось больше дюжины. Шум переплетался с сизым табачным дымом.
– Ах, дорогой, повтори это еще раз и громко.
– Господин ротмистр! Еще наливочки?
На тарелках было что-то серое. Еда бедняков. Они все теперь бедняки, мелкая шушера – вахтеры, счетоводы, сторожа. Куда еще возьмут бесправного «бывшего», царского офицера? Зато тарелки, бокалы, скатерть, вилки, ножи – хорошего дома. А воспоминания – подлиннее и живее событий дня. Только и слышалось:
– А помните?..
– Господи, благослови вас, Шура, что вы серьезно занимались музыкой.
– Не меня! Не меня! – крикнул седоватый толстячок Александр Афанасьевич, Шура – князь Одоевский. Однополчанин. – Жену мою покойную. Она, бедная, музыку терпеть не могла. Нервы! Дверь пришлось везти из Италии вместе со скрипкой, – хохотнул он.
Все знали этот секрет: комната предназначалась для музыкальных упражнений хозяина, Шуры, князя Одоевского. Его после революции в нее и уплотнили – как в самую маленькую, скромную, почти бедную. Дуракам-пролетариям в голову не могло прийти, что отделка этой кельи обошлась Одоевскому дороже, чем будуар нервной супруги со всеми финтифлюшками. Стены, пол, потолок, дверная коробка – все было искусно изолировано от прочей квартиры. Тоже итальянский мастер работал, между прочим. Специально выписанный. Не комната получилась, а музыкальная шкатулка. Ни звука не могло из нее просочиться вовне: туда, в эсэсэрию.
– Что, можно и спеть?
И тотчас баритон громко затянул:
– Боже, царя храни! Сильный, державный!
Ткнули в бок, баритон закашлялся. Это вызвало новый взрыв веселья. Незамысловатые уютные шутки.
– Вы прервали большую оперную карьеру!
– Что?
Ему все-таки стало слегка не по себе. Как не по себе может стать человеку на стеклянном мосту: вроде и опора под ногами, но вдруг…
– А это не опасно? – Показал глазами на стены: соседи.
Шура захохотал. И сам же громко подхватил:
– Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам!
Звон бокалов не дал ему докончить. Радостно сталкивались над столом голоса:
– За тебя, дорогой!.. Ваше здоровье!.. Мир этому дому!.. За музыку! За твою скрипку! Что бы мы все без него делали!.. Эти наши собрания для меня – единственная отдушина… Лишь бы не в последний раз!..
Все тянули друг к другу бокалы. Все чокались. И он протягивал. И он чокался. Но вдруг отвел свой бокал. У толстого человека с круглой седой бородкой в ответ сразу напряглись плечи. Рука так и осталась протянутой, блеснуло пенсне на шнурке. Лицо гостя слегка побледнело, но он сделал вид, что не было оскорбления. Поднял бокал, приветствуя, доброжелательно выговорил:
– Что же это вы, Юрий Георгиевич? Далеко тянуться?
– Нет, – холодно отчеканил он. Голос теперь тоже был другой – настоящий. Не тот, что каждый день отвечал советским гражданам, принимая штиблеты: «Поглядим-с». Его собственный. Каждый звук по-петербургски отчетлив:
– Я с вами, господин Бутович, не имею охоты чокаться.
Никто в звоне, стуке, разговорах не заметил заминки. Но хозяин, Шура Одоевский, уловил сбой в весело и привычно работавшем механизме. Поспешил к обоим с бутылкой.
– У всех полны чаши? Всего вдосталь, господа? – Весело и гостеприимно он поглядывал то на одного, то на другого. Но под гостеприимством сквозила тревога.
– Не знал я, Шура, что ты пригласил сегодня одного нерукоподаваемого господина, видишь ли.
Лицо Бутовича окаменело.
– Полно, Юрий Георгиевич, – выговорил он. – Мы все теперь одно. Стоит ли петушиться?
Юрий Георгиевич вскочил так быстро, что разговор за столом разом умолк. Замерли ножи и вилки, застыли бокалы. Только тоненький дымок струился вверх из неподвижной сигареты в чьих-то пальцах.
– Не одно мы, господин Бутович. Я большевикам не служу. С комиссарами не якшаюсь. В отличие от вас.
– Я служу не большевикам! – разом вспыхнул Бутович. – Я служу лошадям! Если бы я не остался при конном заводе…
– В своем имении. При своем конном заводе, – презрительно поправил его Юрий Георгиевич.
– Я боролся не за свое имение.
– За свою шкуру, – последовало холодно.
– За лошадей! Да, я боролся! За орловского рысака.
Бутович обвел глазами стол, ища поддержки.
– Это… это нечестно. Вы прощаете другим. Карьеру при Советах. А мне – не прощаете? Или здесь другое? Что? Та история? Неужели та история?!
Но едва встречался с чьим-то взглядом, взгляд этот затягивался льдом. Поначалу они еще старались делать вид, что не замечают «слона в комнате», – ради драгоценной редкости их встреч, ради гостеприимного Шуры, ради их прошлого. Но теперь не скрывали чувств. Били презрением.
– Хорошо. Допустим. Признаю. В той истории я перегнул. Но сколько уже можно? Неужели вы не видите главного? Я их спас! Лошади не погибли! Великая русская порода не погибла! Линия великого Крепыша не погибла для России! Потому что я трудился. Боролся! А где все это время были вы, Юрий Георгиевич? Вспоминали своих никчемных американских метисов? Пили горькую и оплакивали судьбу?
Но молчание уже сковало комнату. Даже добродушнейший Шура глядел тяжело и осуждал, одновременно словно извиняясь – уже как хозяин перед гостем – за собственную ненависть.
Бутович встал, бросил салфетку, поймал рукой выскользнувшее стеклышко пенсне. И вышел из комнаты, когда-то давно, в другой жизни обитой итальянским умельцем звуконепроницаемой пробкой.
Вышел обратно в Ленинград 1931 года.
Глава 1
Ольга Дмитриевна снова переложила большую ватную рукавицу, на этот раз с правого края стола на левый.
– …И самое возмутительное, что эти так называемые специалисты не смыслят ни-че-го. Вы бы видели, что за материал они привезли! Уму непостижимо! И это на валюту!
Из ее слов Зайцеву следовало самому додумать, что валюту Советское государство в данном случае профукало.
Рукавица была похожа на огромную кухонную прихватку, только намного толще и длиннее. Трудно было представить, что Ольга Дмитриевна натянет ее на свою худую руку и пойдет трепать, кружить на рукавице очередного пса, сомкнувшего челюсти.