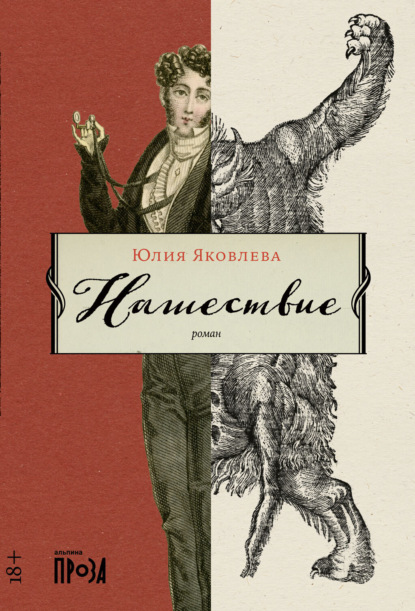По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нашествие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Клим, здесь всё, что приходило?
– Ну дак.
– Приглашение от губернатора. На бал и фейерверк… Его здесь нет.
– Может, не присылали, – заметил Клим. Подошёл, стал сгребать всё обратно в корзину.
Бурмин придержал его руку:
– Погоди.
И снова окунулся в бумаги.
– Да не пригласили! – опять попытался Клим.
– Быть такого не может. Чтоб не прислали. На всякий бал присылают.
– Вы ни на какое не отвечали. Они и перестали. Приглашать.
Но тут Бурмин издал торжествующий возглас и быстро пальцем надорвал маленький голубой конверт. Выпростал сложенную бумагу. Пробежал глазами:
– Отлично. Танцы и мороженое.
«Знал бы – сжёг сразу». Клим готов был хлопнуть кулаком свою дурную голову.
– Готовь фрак.
– Барин! Богом заклинаю! – взмолился Клим.
– Что такое? – нахмурился Бурмин.
– Как бы не стряслось… какой-нибудь глупости.
– Брось.
– Зачем это, барин?
– Пишут, будет фейерверк. Давно не видел фейерверков.
Клим ухватился за голого барина:
– Батюшка! Не губи! Уж шесть лет выстоял! А тут за ерунду пропадёшь…
Бурмин оттолкнул его руки. Нахмурился:
– А ты шесть лет делал вид, что ничего не замечаешь. Вот и делай впредь.
Но добавил мягко:
– Всю жизнь не отсидишься. На черта тогда вообще жизнь? Рубашку под жилет, галстук, – распорядился. – Ступай.
Пнул походя ногой груду бумаг на полу:
– И разожги в гостиной камин!
Он знал, что то, что он сделает, может разрушить его жизнь, но почему-то чувствовал радостный подъём.
Как кавалерист перед атакой, из которой – и он это знает сам – может не вернуться.
Но между «может» и «не вернётся» была пропасть, полная радостного возбуждения, похожего на счастье.
Бурмин подхватил косынку, тряхнул за концы, перекинул, перехватил и, складывая на ходу, босиком пошлёпал в свою спальню.
– Доехали хорошо, благодарю. Один раз только, когда ехали через лес…
Но мать уже потеряла интерес. Махнула рукой:
– Ах, ну и прекрасно, раз всё хорошо. С этими деревенскими дорогами ничего не поймёшь. Что старуха Печерская? Очень тебя уболтала? А как тебе её зять? Не помню, которой он дочери муж. Старшая, Евпраксия, вышла замуж… – И графиня завела разговор, интересный ей, но нимало не занимавший дочь (до чего, впрочем, матери не было дела).
Мари загляделась в окно. Мужик приставил лестницу к старой яблоне. Залез. Зажёг свёрнутую жгутом тряпку. Стал потряхивать, разгоняя густой дым. Обволакивая им себя, как завесой. Мари заметила в ветвях серый шершавый шар. Мужик зажал зубами жгут. Голову его тут же окутал дым. Взялся за шар обеими руками.
Голос матери плескал и журчал где-то в отдалении.
Обсуждали чужие свадьбы.
– Что? Простите, мама, – обернулась она, услышав, что её позвали по имени. Графиня повторила вопрос. Дети. Взглянуть. Мари спохватилась, кивнула.
Показала на окно:
– Это же Василий, верно?
Мужик за окном бережным движением свернул шар, как большое яблоко с черенка. Мотая головой, точно отмахиваясь от чего-то, стал спускаться с ношей.
– Ты его разве помнишь?
– Как забыть. Всегда столько выдумок и проделок. Мы детьми его обожали.
Графиня поморщилась, отмахиваясь от неинтересного ей мемуара:
– Ах, ну скорее же покажи своих!
Мари щёлкнула сумочкой. Вынула, раскрыла и передала матери миниатюрный двойной портрет.
– Какая прелесть. – Одной рукой графиня поднесла к лицу раскрытую рамку, другой придерживала шаль. Но не выразила сожаления, что внуков не привезли.
– К сожалению, у меня только старые, – извинилась Мари. – Новые заказали, да не было готово, когда я выезжала.
– Сколько им здесь?