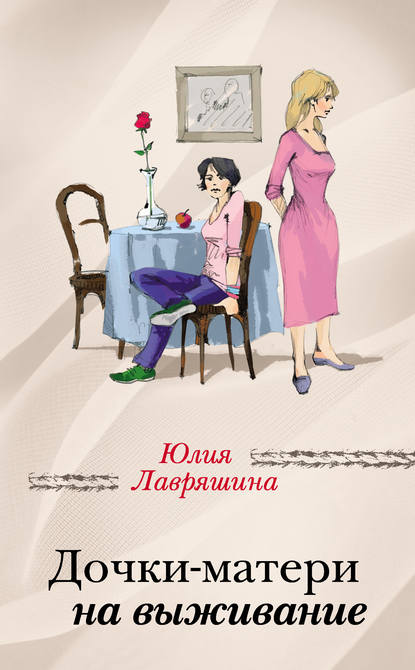По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дочки-матери на выживание
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В зеркале потом встретила виноватую улыбку:
– Но кто-то же должен появляться время от времени…
* * *
Этого времени – после развода – набралось уже полгода. Она сама его организовала, когда почувствовала, что ей невмоготу больше тянуть на своих плечах двоих художников, постоянно находящихся в творческом поиске. Продолжать нянчиться с дочерью Наташа была еще согласна. Полновесным содержанием искупала вину за то, что сама считала Анютку недолюбленной с тех пор, как родился сын. Ее златовласый мальчик… Это его кудри погладить бы, одарить невинной материнской лаской. Разве другими его заменишь?
Не в то ли время, когда родился Ленька, и муж перестал быть мужчиной ее жизни? Как они рискуют, эти отцы, жаждущие иметь сыновей! Володя проиграл в турнире с собственным сыном. Самым необъяснимым стало то, что победитель все отдал побежденному, своей судьбой его поддержал… Если бы Наташа могла хотя бы мысленно допустить такую возможность, то уж ни за что не стала бы удалять мужа из своей жизни. Но однажды ей стало невмоготу видеть его изо дня в день, уже с утра – потерянного, выбитого из колеи всей жизнью, не выходящего из творческого кризиса…
И сам Володя, и все вокруг понимали, что он пошел не своей дорогой, переоценил способности и потому не мог найти себе работу в Москве, где средненький театральный режиссер никому не был нужен. Талантов пруд пруди! А ничего другого он не умел и ничему не хотел учиться. Помогать в делах Наташе казалось ему зазорным, ведь она занималась «развлекаловкой», а ее муж презирал это и дочь заразил таким отношением. Он хотел быть причастным к настоящему искусству, а вот оно не желало родниться с ним, как аристократическая дама с плебеем. Которым Володя, конечно же, был, провинциал несчастный… Впрочем, как и москвичка Наташа, и все их друзья рабоче-крестьянского происхождения. Хотя кто-то из них все же допускался ко двору…
Но то, что делал Владимир Малаховский даже сразу после ГИТИСа, когда юношеская наглость компенсировала недостаток одаренности, было слишком консервативно, подражательно и казалось всем до неловкости неумелым для человека с таким дипломом. А потом и задора поубавилось… Володя пытался убедить ее, что ему просто не дают проявить себя в должной мере, что будь у него свой театр, он творил бы чудеса, и в его фантазиях все действительно казалось волшебным. Когда супруг вдохновлялся и говорил о своем великом будущем, их дети слушали отца, раскрыв рты, и верили ему безоговорочно.
А Наташе было не до воздушных замков, она для них же, для своей семьи, строила настоящий дом, из кирпича и бетона, а для него нужны были реальные деньги. Не те, которые воображаемый театр принесет когда-нибудь… Если вообще принесет. Как она могла оторвать хоть кусок от своей мечты, которая уже возводилась строителями, чтобы воплотить мечту мужа? Сам же он ничего не мог предпринять даже ради того, чтобы помочь себе самому. О вкладе в строительство дома она уже и не заговаривала…
Однажды подавленный Наташин стыд за мужа, который все меньше воспринимался даже мужчиной, не то что творцом, прорвался наружу. Едкое замечание со стороны отравленной стрелой пронзило плодный пузырь, в котором вынашивалось отторжение. На одной из премьер Володиного однокашника кто-то сказал за ее спиной:
– Вовку Малаховского видел? Я думал, он давно уже спился или свалил из профессии… Нет, еще цепляется, неудачник! Лучше б мясом торговал.
Наташе показалось, что меж лопаток плеснули кипятком – она так и выгнулась от боли. Жар мгновенно метнулся к лицу, едва не выжег глаза. Зажмурившись, она попыталась удержать слезы, которые отличались своей природой от обычных, но тоже были давно знакомы ей. Наташа надеялась, что ей никогда больше не доведется плакать от стыда, и много лет держалась, но Володя все же вынудил ее. Всего лишь тем, что был причастен к ней…
И она решила это исправить. Если бы Наташа просто сказала ему: «Уходи!» – он нашел бы тысячу причин остаться, тысячу слов, чтобы уговорить ее. Потому что, по сути, повода расставаться не было. И дети в два голоса вторили бы ему, отторгая правду матери, а это стало бы самым мучительным… Нужно было отяготить мужа виной, чтобы не посмел даже просить ее о снисхождении. Наташа рассудила, что сорокапятилетнего мужчину легче всего поймать на том, что бес щекочет ему ребро.
И она избрала объект для задуманной интриги: двадцатилетняя дочь его старого, чуть ли не школьного (Наташа точно не помнила) приятеля, который сам, непонятно почему, относился к Володе с придыханием и девочку воспитал в том же духе. Непризнанный гений! Живая легенда… Ариша и раньше часто мелькала в их доме, хотя никто из их с Володей детей с ней не дружил, Аня вообще разглядывала воздушную блондиночку с недоумением естествоиспытателя, теперь же Наташа сама стала зазывать ее по поводу и без повода. А вечером настойчиво просила Володю отвезти девочку домой…
Как бы само собой разумелось, что там по дороге происходило, но чутье разочаровывало Наташу: ничего! Хотя Ариночка так и обвивала ее мужа взглядами и дыханьем, и неуместными своими восторгами. Почему он так и не позволил себе отдаться обожанию глупой юности? Ведь кроме всего прочего, это придало бы ему уверенности в себе, расправило бы слежавшиеся крылья. Наташа недоумевала: «Любит он меня, что ли?» И раздражалась от того, как Володя сопит, сосредоточившись на чем-то, как мелко и часто жует, будто суслик, как лоснится на крутом подбородке его смуглая кожа…
А ей уже так нестерпимо хотелось отделаться от него, что она поторопила события. В тот день, когда простуженный Володя наверняка был дома один и в постели, она купила «симку» и с нового номера послала той девочке сообщение: «Ариночка, хочу тебя видеть. Больше не могу бороться с собой! Приезжай ко мне в два часа. Буду один. Проходи прямо в спальню. Володя». Наташа позаботилась о том, чтобы дверь осталась открытой, а муж не сошел с постели – подсунула ему новый роман Акунина, которого он прочитывал залпом.
Эта дурочка еще и ответила на sms: «Буду! Твоя! Люблю-люблю-люблю!» Наташу чуть не стошнило от такого количества сиропа… Ровно в два часа по полудню Арина вошла в их дом. Наташа выждала десять минут и отправилась следом, чувствуя, как в крови закипает ликование, будто в спальне ее ждал подарок, о котором она мечтала не один месяц. Она виделась себе маленькой девочкой в синем бархатном платье и с голубым бантом в волосах, на цыпочках крадущейся к рождественской елке. Шейка вытянута, губка закушена от волнения…
Разочарованию ее не было предела: Володя не пустил Аринку дальше краешка постели. Девочка сидела, поджав отвергнутую голую ножку, и они, видимо, выясняли, как произошло это недоразумение с сообщением. Сарафанчик на ней был весьма открытый, но все же он был – на ней. И тем не менее сцена могла быть истолкована как весьма пикантная. Именно поэтому, когда Наташа возникла в дверях разгневанной фурией, на лицах обоих отразился ужас.
– Кажется, я не вовремя, – только и сказала она и начала быстро спускаться по лестнице.
«Пожалуй, я – лучший режиссер, чем он», – подумалось ей, когда Володя, как и предполагалось, выскочил за ней в одних трусах и догнал в три прыжка. Он так жалко лепетал что-то о своей полной непричастности к происходящему, о том самом недоразумении, которое Наташа просчитала до деталей, что ей стало тошно смотреть на него. Свой подарок ей все же удалось стащить из-под елки…
– Я подаю на развод, – вполголоса сообщила она. – Я не для того пахала на этот дом, чтобы из меня здесь же делали посмешище.
Дабы оповестить детей, Наташе потребовались минуты. Аня поверила сразу: невозможность понять навязчивое Аринино присутствие в их доме нашло объяснение. И Володина любимица, дочь, почувствовала, что он предал именно ее. Променял на бесцветную пустоту, позарившись только на юность. Оскорблена дочь была куда сильнее, чем сама Наташа, – отсчет от ноля!
Вот сын… То ли поверил не ей, а отцу, то ли проявил пресловутую мужскую солидарность. В те дни Наташе казалось, что под ногами у нее – зыбучие пески, и она увязала каждым своим шагом. И сил на то, чтобы просто переставлять ноги, становилось все меньше. А Ленька был где-то там – за краем пустыни, и быстро шел не к ней навстречу, а в противоположную сторону. Не хотел ничего слышать, хотя они всегда понимали друг друга с полуслова. Намека хватало на схожесть ситуации, с каким-нибудь фильмом, которые всегда смотрели вместе, чтобы они уже расхохотались в голос.
А в те дни смех совсем перестал звучать в доме. Володя сломался сразу. Попытался доказать ей свою невиновность, но как? Факт был налицо: Наташа застала их в спальне. Голую девичью ножку до сих пор видела на простыне… Что его клятвы против очевидного?! И он сдался. Да так быстро, что жена даже испытала разочарование. К тому же возникли подозрения, что все было хоть и подстроено ею самой, но искренно желанно было обоими участниками фарса…
Однако разбираться в этом Наташа не стала. И ни минуты не жалела потом, что освободила себя от роли утешительницы несостоявшегося художника. Незавидная роль. Хотя многие жены ведут ее десятками лет. Но вот она не была просто женой, какой-нибудь домашней курицей, которая молиться готова на сомнительный талант своего мужа. Когда-то ее тоже восхитило, что Володя – студент последнего курса ГИТИСа, будущий режиссер, он показался ей почти небожителем, ведь сама занималась в простеньком училище культуры. Вот только с тех пор она неутомимо, не жалея себя, шла вверх, как в юности на Аю-Даг взбиралась, хоть и мечтая отдохнуть, припасть к фляжке, но не останавливалась, а муж топтался на месте. Годами… Десятилетиями. Что могло измениться, если ему уже было под пятьдесят?
Знакомый судья, которого Наташа еще и подбодрила конвертом, развел их быстрее, чем Володя успел собраться с мыслями.
Дневник в блоге Мантиссы
«Мать присутствует в моей жизни постоянно, хоть в мыслях, если не наяву. Как некий демон. Средненький такой, веселенький демон, не наделенный гением, зато привязчивый сверх меры. То, что она много лет работала тамадой, приучило ее по-простому требовать внимания к собственной персоне: «Все посмотрели на меня!»
А я отказываюсь выполнять приказы, от кого бы они ни исходили. Изгонит она меня, как отца? Сломает, как бабушку? Изолирует от мира, в котором все готовы ей подчиняться? Бабушкино пренебрежение правилами бесило ее до того, что моя мать объявила его сумасшествием. А купленный ею врач психиатрической больницы с готовностью щелкнул замком. Она вышла победительницей в многолетнем сражении с собственной матерью. Отец успел сбежать прежде, чем она и его неуспокоенность объявила психическим заболеванием.
Теперь я – единственная потенциальная жертва, сама оставшаяся в ловушке из какого-то болезненного любопытства: «Что будет? Что она со мной сделает?»
Чувствую, ей никак не удается понять моего к ней отношения. Если б я сама понимала! И могла бы определить одним словом: любовь? Ненависть? Или какая-то чертова зависимость от женщины, которую не уважаю, не восхищаюсь ею, как многие, считаю дурно воспитанной, необразованной, неинтересной. И вместе с тем руку отдала бы, чтоб стать для нее средоточием мира… Чтобы у нее хоть раз возникло желание узнать меня и понять. Углубиться в мои мысли, не отвечая на бесконечные телефонные звонки. Чтобы мысль обо мне возникала у нее не между дел, а занимала ее постоянно. Словом, чтобы моя мать любила меня…
Жуткое видение из детства – ее перекошенное от злобы лицо. Из-за чего она орала и тащила меня за волосы из кухни? Я пролила Ленькино молоко? Стащила у младшего брата банан, которого тогда днем с огнем было не купить? Что такого чудовищного мог совершить шестилетний ребенок, чтобы волочь его за лохмы? Мои сиротские, в рубчик, колготки, какие носили тогда все дети, цеплялись за гвоздики, торчащие из пола. Но этого она не замечала, и моего рева не слышала. А у меня голова лопалась от звона – столько шума мы с ней произвели тогда.
Она вообще – олицетворение грохочущей стихии. Хотя, надо признать, сердится мать редко, но тем глубже врезается в память каждый эпизод. Может, всего пару раз меня и наказала в детстве, а простить не могу. Вот Ленька никогда не был злопамятным, да и ее отучил кричать на раз: взял и нарисовал портрет «Мама-страшилище» после очередного ее приступа. И – как рукой сняло! Она еще и смеялась, другим рассказывая, как воспитывает ее сын. Знала, как нас бесит, когда она каждого встречного посвящает в детали нашей жизни, всем пересказывает, как смешно высказался ее ребенок, и все равно болтала языком направо и налево. Даже Ленькино самолюбие не щадила, что уж обо мне говорить… Наверное, потому я привыкла держать язык за зубами. Теперь в нашем доме царит тишина…
А Ленька тогда и другой шедевр создал «Мама-красавица», где она уже была с улыбочкой. Которую, надо признать, мы видели постоянно. Уже с утра слышали ее пронзительный смех… Только ведь смех – не признак большого ума. Даже первобытные люди умели смеяться.
Наша мать недалеко от них ушла, хоть и считает себя продвинутой женщиной. Но ее детская непосредственность меня просто с ума сводит! Хочется связать эту школьницу-переростка, вставить кляп и нацепить паранджу, чтобы не видеть ее и не слышать. Но чтобы она была рядом. Что-то во мне постоянно просит ее физического присутствия. Самой противно, но это так.
Изо дня в день я упорно пытаюсь порвать ту энергетическую пуповину, которой она (сама того не желая!) держит меня. Чтобы наконец уйти от нее, начать самостоятельную жизнь. Но боюсь оторваться от матери, как от генератора, который подпитывает меня избытком своей энергии. Все эмоции в ней – через край! Глаза горят, руки взлетают, словно я хуже пойму, если она будет говорить спокойно. Но нет! Ей нужно орать, хохотать во все горло над любой глупостью, прозвучавшей по телевизору, все время пытаться втянуть меня в совершенно пустой диалог. А вот просто сесть рядом, помолчать или негромко поговорить не о пустяках прошедшего дня, а о чем-то по-настоящему важном, это не для нее.
Как мне хотелось бы заставить ее отбросить словесную шелуху и научиться произносить слова! Но для этого нужно как минимум запереть ее дома, выключить телефон и телевизор, вынудить ее вслушаться в тишину и собственные мысли. Почему она не научилась этому у своей матери, моей бабушки Вари, которая большую часть жизни провела, погруженная в грезы и размышления?
Картинки из детства: бабушка в шелковом халате возлежит на диване с сигаретой, духи и туманы, серебряные ложечки, витые свечи, сборники стихов, помятые блокноты с собственными записями… Когда я впервые услышала выражение «не от мира сего», то сразу представила бабушку. И восхитилась тем, что она не имеет ничего общего с этим миром, который разочаровывал меня уже в детстве: толстые соседки с бидонами, их пьяненькие мужья с «бычками» в углах слюнявых ртов, вечно орущие, и в горе, и в радости, дети… Меня манила таинственная бабушкина действительность, в которой как раз действию не было места. Только – химеры, мечты, мысли.
А моя мать – человек поступков и целиком принадлежит современности. Ей некогда заглянуть даже в себя, не говоря уж о других, она живет в постоянной борьбе за кусок хлеба. Кому он нужен, этот кусок?! Она твердит, что ей с детства приходилось зарабатывать, потому что бабушка не спускалась из своего поднебесья. А я думаю, что алиментов деда им хватило бы, чтоб не умереть с голоду… Но моей матери как воздух нужна была круговерть, она словно та безумная белка в колесе, которая несется вперед ради самого движения. Бабушкины покой и нега ей кажутся преступными. А мне – восхитительными!
Сломать ее колесо? Обездвижить неукротимого зверька? Иногда суетливость матери бесит до того, что хочется приковать ее цепями и заставить увидеть меня! Услышать. И даже прочесть то, что я написала за все это время. Ведь не разучилась же она читать!
Хотя литература для нее – это нечто потустороннее, чем реально существующий человек заниматься не может. Будто все книги мира написаны некими фантомами… Мою мать куда больше порадовало бы, если б я вообще изъяснялась теми куцыми обрубками, которые используют для общения мои ровесники. Мне кажется, если б я произносила «типа», «жесть!», «супер!», то она понимала бы меня гораздо лучше. Не потому, что она сама использует эти слова, вовсе нет. Но в этом случае я была бы понятнее матери. Я была бы как все. Она и от отца ждала того же: чтоб он спустился с небес на землю, пожертвовал своей индивидуальностью ради возможности слиться с толпой, в которой мать чувствует себя как рыба в воде.
В те редкие дни, когда мы ужинали все вместе, мать просто корчило, когда отец выходил из своей комнаты и начинал с воодушевлением пересказывать, какую интереснейшую вещь прочитал только что! Она так сжимала вилку и нож, что кончики пальцев белели, готовые омертветь, лишь бы не ощущать присутствия нелюбимого человека. И еще это его обращение «Ташенька», которое всем казалось интимным и ласковым, кроме нее самой, зацикленной на своей значительности. Глава фирмы! И вдруг – Ташенька…
Неужели отец не замечал всего этого? Или отказывался верить, залепляя глаза той пленкой самообмана, что используется человечеством веками? Наверное, так еще Авель пытался убедить себя, что брат его любит, что они как одно целое…
Но так не могло продолжаться до бесконечности, ни тогда, ни сейчас. Если б нетерпеливая юность в лице Аринки не перешла в наступление. Мне – двадцать два, я еще не чувствую себя достаточно взрослой, но Арина – это, даже по отношению ко мне, уже другое поколение, никакими моральными устоями не зараженное. Она не ищет оправдания той разрушительной силе, которую направила на семью Малаховских и смела ее с лица земли. Ей был нужен мой отец, и она пришла взять его. Позиция восемнадцатилетних: почему я должна отказывать себе в том, что хочу?
А я не позволила себе этого. Мне хотелось уехать с отцом… Как же мне хотелось этого! Но буквально за пару дней до разрушительного явления Арины в нашей жизни бабушка, которую тайком навещаю в психиатрической больнице, вскользь намекнула, что вряд ли я прихожусь ему родной дочерью…
И вся моя необъяснимая ненависть к демонстративной женственности моей матери сразу нашла объяснения. Годами меня мучило непонимание того, почему я отторгаю ее, но лишь теперь все встало на свои места: эта белокурая красотка отобрала у меня отца еще до моего рождения. Лучше б это она оказалась мне не родной, ведь никакой кровной близости между нами никогда и не было… Тот человек, которого я считала им, тот единственно возможный и любимый отец, оказывается, был предан ею больше двадцати лет назад, а теперь еще и изгнан. А я даже не могла уехать за ним следом, потому что, если верить бабушке, я ему – никто. А я ей верю, хоть она и заперта в сумасшедшем доме».
* * *
Застряв в пробке на Тверском бульваре, Наташа подумала о том, что ей хорошо было бы родиться кротом, способным проложить под землей собственные юркие ходы. Несостоявшаяся жизнь мгновенно увиделась компьютерным мультиком: темнота несется навстречу, извиваясь гибким телом. Скорее! Еще скорее! Крот на летающей доске… Маленькая зверушка с лицом Натальи Малаховской.
Смех прозвучал для самой себя, как и все в жизни в последнее время… Хотя годами верила, что не для себя живет и чего-то добивается, о чем-то еще только мечтает. Но все – для своих детей. Чтобы они могли ею гордиться. Дочь и сын. Полноценная семья.
– Да, Сережа? – машинально ответила она на звонок. – Я помню, что встречаемся. Конечно… Еще ведь есть время? Ты пока настраивайся, настраивайся! Я только заскочу по одному делу…
Уже для себя добавила вслух:
– Но кто-то же должен появляться время от времени…
* * *
Этого времени – после развода – набралось уже полгода. Она сама его организовала, когда почувствовала, что ей невмоготу больше тянуть на своих плечах двоих художников, постоянно находящихся в творческом поиске. Продолжать нянчиться с дочерью Наташа была еще согласна. Полновесным содержанием искупала вину за то, что сама считала Анютку недолюбленной с тех пор, как родился сын. Ее златовласый мальчик… Это его кудри погладить бы, одарить невинной материнской лаской. Разве другими его заменишь?
Не в то ли время, когда родился Ленька, и муж перестал быть мужчиной ее жизни? Как они рискуют, эти отцы, жаждущие иметь сыновей! Володя проиграл в турнире с собственным сыном. Самым необъяснимым стало то, что победитель все отдал побежденному, своей судьбой его поддержал… Если бы Наташа могла хотя бы мысленно допустить такую возможность, то уж ни за что не стала бы удалять мужа из своей жизни. Но однажды ей стало невмоготу видеть его изо дня в день, уже с утра – потерянного, выбитого из колеи всей жизнью, не выходящего из творческого кризиса…
И сам Володя, и все вокруг понимали, что он пошел не своей дорогой, переоценил способности и потому не мог найти себе работу в Москве, где средненький театральный режиссер никому не был нужен. Талантов пруд пруди! А ничего другого он не умел и ничему не хотел учиться. Помогать в делах Наташе казалось ему зазорным, ведь она занималась «развлекаловкой», а ее муж презирал это и дочь заразил таким отношением. Он хотел быть причастным к настоящему искусству, а вот оно не желало родниться с ним, как аристократическая дама с плебеем. Которым Володя, конечно же, был, провинциал несчастный… Впрочем, как и москвичка Наташа, и все их друзья рабоче-крестьянского происхождения. Хотя кто-то из них все же допускался ко двору…
Но то, что делал Владимир Малаховский даже сразу после ГИТИСа, когда юношеская наглость компенсировала недостаток одаренности, было слишком консервативно, подражательно и казалось всем до неловкости неумелым для человека с таким дипломом. А потом и задора поубавилось… Володя пытался убедить ее, что ему просто не дают проявить себя в должной мере, что будь у него свой театр, он творил бы чудеса, и в его фантазиях все действительно казалось волшебным. Когда супруг вдохновлялся и говорил о своем великом будущем, их дети слушали отца, раскрыв рты, и верили ему безоговорочно.
А Наташе было не до воздушных замков, она для них же, для своей семьи, строила настоящий дом, из кирпича и бетона, а для него нужны были реальные деньги. Не те, которые воображаемый театр принесет когда-нибудь… Если вообще принесет. Как она могла оторвать хоть кусок от своей мечты, которая уже возводилась строителями, чтобы воплотить мечту мужа? Сам же он ничего не мог предпринять даже ради того, чтобы помочь себе самому. О вкладе в строительство дома она уже и не заговаривала…
Однажды подавленный Наташин стыд за мужа, который все меньше воспринимался даже мужчиной, не то что творцом, прорвался наружу. Едкое замечание со стороны отравленной стрелой пронзило плодный пузырь, в котором вынашивалось отторжение. На одной из премьер Володиного однокашника кто-то сказал за ее спиной:
– Вовку Малаховского видел? Я думал, он давно уже спился или свалил из профессии… Нет, еще цепляется, неудачник! Лучше б мясом торговал.
Наташе показалось, что меж лопаток плеснули кипятком – она так и выгнулась от боли. Жар мгновенно метнулся к лицу, едва не выжег глаза. Зажмурившись, она попыталась удержать слезы, которые отличались своей природой от обычных, но тоже были давно знакомы ей. Наташа надеялась, что ей никогда больше не доведется плакать от стыда, и много лет держалась, но Володя все же вынудил ее. Всего лишь тем, что был причастен к ней…
И она решила это исправить. Если бы Наташа просто сказала ему: «Уходи!» – он нашел бы тысячу причин остаться, тысячу слов, чтобы уговорить ее. Потому что, по сути, повода расставаться не было. И дети в два голоса вторили бы ему, отторгая правду матери, а это стало бы самым мучительным… Нужно было отяготить мужа виной, чтобы не посмел даже просить ее о снисхождении. Наташа рассудила, что сорокапятилетнего мужчину легче всего поймать на том, что бес щекочет ему ребро.
И она избрала объект для задуманной интриги: двадцатилетняя дочь его старого, чуть ли не школьного (Наташа точно не помнила) приятеля, который сам, непонятно почему, относился к Володе с придыханием и девочку воспитал в том же духе. Непризнанный гений! Живая легенда… Ариша и раньше часто мелькала в их доме, хотя никто из их с Володей детей с ней не дружил, Аня вообще разглядывала воздушную блондиночку с недоумением естествоиспытателя, теперь же Наташа сама стала зазывать ее по поводу и без повода. А вечером настойчиво просила Володю отвезти девочку домой…
Как бы само собой разумелось, что там по дороге происходило, но чутье разочаровывало Наташу: ничего! Хотя Ариночка так и обвивала ее мужа взглядами и дыханьем, и неуместными своими восторгами. Почему он так и не позволил себе отдаться обожанию глупой юности? Ведь кроме всего прочего, это придало бы ему уверенности в себе, расправило бы слежавшиеся крылья. Наташа недоумевала: «Любит он меня, что ли?» И раздражалась от того, как Володя сопит, сосредоточившись на чем-то, как мелко и часто жует, будто суслик, как лоснится на крутом подбородке его смуглая кожа…
А ей уже так нестерпимо хотелось отделаться от него, что она поторопила события. В тот день, когда простуженный Володя наверняка был дома один и в постели, она купила «симку» и с нового номера послала той девочке сообщение: «Ариночка, хочу тебя видеть. Больше не могу бороться с собой! Приезжай ко мне в два часа. Буду один. Проходи прямо в спальню. Володя». Наташа позаботилась о том, чтобы дверь осталась открытой, а муж не сошел с постели – подсунула ему новый роман Акунина, которого он прочитывал залпом.
Эта дурочка еще и ответила на sms: «Буду! Твоя! Люблю-люблю-люблю!» Наташу чуть не стошнило от такого количества сиропа… Ровно в два часа по полудню Арина вошла в их дом. Наташа выждала десять минут и отправилась следом, чувствуя, как в крови закипает ликование, будто в спальне ее ждал подарок, о котором она мечтала не один месяц. Она виделась себе маленькой девочкой в синем бархатном платье и с голубым бантом в волосах, на цыпочках крадущейся к рождественской елке. Шейка вытянута, губка закушена от волнения…
Разочарованию ее не было предела: Володя не пустил Аринку дальше краешка постели. Девочка сидела, поджав отвергнутую голую ножку, и они, видимо, выясняли, как произошло это недоразумение с сообщением. Сарафанчик на ней был весьма открытый, но все же он был – на ней. И тем не менее сцена могла быть истолкована как весьма пикантная. Именно поэтому, когда Наташа возникла в дверях разгневанной фурией, на лицах обоих отразился ужас.
– Кажется, я не вовремя, – только и сказала она и начала быстро спускаться по лестнице.
«Пожалуй, я – лучший режиссер, чем он», – подумалось ей, когда Володя, как и предполагалось, выскочил за ней в одних трусах и догнал в три прыжка. Он так жалко лепетал что-то о своей полной непричастности к происходящему, о том самом недоразумении, которое Наташа просчитала до деталей, что ей стало тошно смотреть на него. Свой подарок ей все же удалось стащить из-под елки…
– Я подаю на развод, – вполголоса сообщила она. – Я не для того пахала на этот дом, чтобы из меня здесь же делали посмешище.
Дабы оповестить детей, Наташе потребовались минуты. Аня поверила сразу: невозможность понять навязчивое Аринино присутствие в их доме нашло объяснение. И Володина любимица, дочь, почувствовала, что он предал именно ее. Променял на бесцветную пустоту, позарившись только на юность. Оскорблена дочь была куда сильнее, чем сама Наташа, – отсчет от ноля!
Вот сын… То ли поверил не ей, а отцу, то ли проявил пресловутую мужскую солидарность. В те дни Наташе казалось, что под ногами у нее – зыбучие пески, и она увязала каждым своим шагом. И сил на то, чтобы просто переставлять ноги, становилось все меньше. А Ленька был где-то там – за краем пустыни, и быстро шел не к ней навстречу, а в противоположную сторону. Не хотел ничего слышать, хотя они всегда понимали друг друга с полуслова. Намека хватало на схожесть ситуации, с каким-нибудь фильмом, которые всегда смотрели вместе, чтобы они уже расхохотались в голос.
А в те дни смех совсем перестал звучать в доме. Володя сломался сразу. Попытался доказать ей свою невиновность, но как? Факт был налицо: Наташа застала их в спальне. Голую девичью ножку до сих пор видела на простыне… Что его клятвы против очевидного?! И он сдался. Да так быстро, что жена даже испытала разочарование. К тому же возникли подозрения, что все было хоть и подстроено ею самой, но искренно желанно было обоими участниками фарса…
Однако разбираться в этом Наташа не стала. И ни минуты не жалела потом, что освободила себя от роли утешительницы несостоявшегося художника. Незавидная роль. Хотя многие жены ведут ее десятками лет. Но вот она не была просто женой, какой-нибудь домашней курицей, которая молиться готова на сомнительный талант своего мужа. Когда-то ее тоже восхитило, что Володя – студент последнего курса ГИТИСа, будущий режиссер, он показался ей почти небожителем, ведь сама занималась в простеньком училище культуры. Вот только с тех пор она неутомимо, не жалея себя, шла вверх, как в юности на Аю-Даг взбиралась, хоть и мечтая отдохнуть, припасть к фляжке, но не останавливалась, а муж топтался на месте. Годами… Десятилетиями. Что могло измениться, если ему уже было под пятьдесят?
Знакомый судья, которого Наташа еще и подбодрила конвертом, развел их быстрее, чем Володя успел собраться с мыслями.
Дневник в блоге Мантиссы
«Мать присутствует в моей жизни постоянно, хоть в мыслях, если не наяву. Как некий демон. Средненький такой, веселенький демон, не наделенный гением, зато привязчивый сверх меры. То, что она много лет работала тамадой, приучило ее по-простому требовать внимания к собственной персоне: «Все посмотрели на меня!»
А я отказываюсь выполнять приказы, от кого бы они ни исходили. Изгонит она меня, как отца? Сломает, как бабушку? Изолирует от мира, в котором все готовы ей подчиняться? Бабушкино пренебрежение правилами бесило ее до того, что моя мать объявила его сумасшествием. А купленный ею врач психиатрической больницы с готовностью щелкнул замком. Она вышла победительницей в многолетнем сражении с собственной матерью. Отец успел сбежать прежде, чем она и его неуспокоенность объявила психическим заболеванием.
Теперь я – единственная потенциальная жертва, сама оставшаяся в ловушке из какого-то болезненного любопытства: «Что будет? Что она со мной сделает?»
Чувствую, ей никак не удается понять моего к ней отношения. Если б я сама понимала! И могла бы определить одним словом: любовь? Ненависть? Или какая-то чертова зависимость от женщины, которую не уважаю, не восхищаюсь ею, как многие, считаю дурно воспитанной, необразованной, неинтересной. И вместе с тем руку отдала бы, чтоб стать для нее средоточием мира… Чтобы у нее хоть раз возникло желание узнать меня и понять. Углубиться в мои мысли, не отвечая на бесконечные телефонные звонки. Чтобы мысль обо мне возникала у нее не между дел, а занимала ее постоянно. Словом, чтобы моя мать любила меня…
Жуткое видение из детства – ее перекошенное от злобы лицо. Из-за чего она орала и тащила меня за волосы из кухни? Я пролила Ленькино молоко? Стащила у младшего брата банан, которого тогда днем с огнем было не купить? Что такого чудовищного мог совершить шестилетний ребенок, чтобы волочь его за лохмы? Мои сиротские, в рубчик, колготки, какие носили тогда все дети, цеплялись за гвоздики, торчащие из пола. Но этого она не замечала, и моего рева не слышала. А у меня голова лопалась от звона – столько шума мы с ней произвели тогда.
Она вообще – олицетворение грохочущей стихии. Хотя, надо признать, сердится мать редко, но тем глубже врезается в память каждый эпизод. Может, всего пару раз меня и наказала в детстве, а простить не могу. Вот Ленька никогда не был злопамятным, да и ее отучил кричать на раз: взял и нарисовал портрет «Мама-страшилище» после очередного ее приступа. И – как рукой сняло! Она еще и смеялась, другим рассказывая, как воспитывает ее сын. Знала, как нас бесит, когда она каждого встречного посвящает в детали нашей жизни, всем пересказывает, как смешно высказался ее ребенок, и все равно болтала языком направо и налево. Даже Ленькино самолюбие не щадила, что уж обо мне говорить… Наверное, потому я привыкла держать язык за зубами. Теперь в нашем доме царит тишина…
А Ленька тогда и другой шедевр создал «Мама-красавица», где она уже была с улыбочкой. Которую, надо признать, мы видели постоянно. Уже с утра слышали ее пронзительный смех… Только ведь смех – не признак большого ума. Даже первобытные люди умели смеяться.
Наша мать недалеко от них ушла, хоть и считает себя продвинутой женщиной. Но ее детская непосредственность меня просто с ума сводит! Хочется связать эту школьницу-переростка, вставить кляп и нацепить паранджу, чтобы не видеть ее и не слышать. Но чтобы она была рядом. Что-то во мне постоянно просит ее физического присутствия. Самой противно, но это так.
Изо дня в день я упорно пытаюсь порвать ту энергетическую пуповину, которой она (сама того не желая!) держит меня. Чтобы наконец уйти от нее, начать самостоятельную жизнь. Но боюсь оторваться от матери, как от генератора, который подпитывает меня избытком своей энергии. Все эмоции в ней – через край! Глаза горят, руки взлетают, словно я хуже пойму, если она будет говорить спокойно. Но нет! Ей нужно орать, хохотать во все горло над любой глупостью, прозвучавшей по телевизору, все время пытаться втянуть меня в совершенно пустой диалог. А вот просто сесть рядом, помолчать или негромко поговорить не о пустяках прошедшего дня, а о чем-то по-настоящему важном, это не для нее.
Как мне хотелось бы заставить ее отбросить словесную шелуху и научиться произносить слова! Но для этого нужно как минимум запереть ее дома, выключить телефон и телевизор, вынудить ее вслушаться в тишину и собственные мысли. Почему она не научилась этому у своей матери, моей бабушки Вари, которая большую часть жизни провела, погруженная в грезы и размышления?
Картинки из детства: бабушка в шелковом халате возлежит на диване с сигаретой, духи и туманы, серебряные ложечки, витые свечи, сборники стихов, помятые блокноты с собственными записями… Когда я впервые услышала выражение «не от мира сего», то сразу представила бабушку. И восхитилась тем, что она не имеет ничего общего с этим миром, который разочаровывал меня уже в детстве: толстые соседки с бидонами, их пьяненькие мужья с «бычками» в углах слюнявых ртов, вечно орущие, и в горе, и в радости, дети… Меня манила таинственная бабушкина действительность, в которой как раз действию не было места. Только – химеры, мечты, мысли.
А моя мать – человек поступков и целиком принадлежит современности. Ей некогда заглянуть даже в себя, не говоря уж о других, она живет в постоянной борьбе за кусок хлеба. Кому он нужен, этот кусок?! Она твердит, что ей с детства приходилось зарабатывать, потому что бабушка не спускалась из своего поднебесья. А я думаю, что алиментов деда им хватило бы, чтоб не умереть с голоду… Но моей матери как воздух нужна была круговерть, она словно та безумная белка в колесе, которая несется вперед ради самого движения. Бабушкины покой и нега ей кажутся преступными. А мне – восхитительными!
Сломать ее колесо? Обездвижить неукротимого зверька? Иногда суетливость матери бесит до того, что хочется приковать ее цепями и заставить увидеть меня! Услышать. И даже прочесть то, что я написала за все это время. Ведь не разучилась же она читать!
Хотя литература для нее – это нечто потустороннее, чем реально существующий человек заниматься не может. Будто все книги мира написаны некими фантомами… Мою мать куда больше порадовало бы, если б я вообще изъяснялась теми куцыми обрубками, которые используют для общения мои ровесники. Мне кажется, если б я произносила «типа», «жесть!», «супер!», то она понимала бы меня гораздо лучше. Не потому, что она сама использует эти слова, вовсе нет. Но в этом случае я была бы понятнее матери. Я была бы как все. Она и от отца ждала того же: чтоб он спустился с небес на землю, пожертвовал своей индивидуальностью ради возможности слиться с толпой, в которой мать чувствует себя как рыба в воде.
В те редкие дни, когда мы ужинали все вместе, мать просто корчило, когда отец выходил из своей комнаты и начинал с воодушевлением пересказывать, какую интереснейшую вещь прочитал только что! Она так сжимала вилку и нож, что кончики пальцев белели, готовые омертветь, лишь бы не ощущать присутствия нелюбимого человека. И еще это его обращение «Ташенька», которое всем казалось интимным и ласковым, кроме нее самой, зацикленной на своей значительности. Глава фирмы! И вдруг – Ташенька…
Неужели отец не замечал всего этого? Или отказывался верить, залепляя глаза той пленкой самообмана, что используется человечеством веками? Наверное, так еще Авель пытался убедить себя, что брат его любит, что они как одно целое…
Но так не могло продолжаться до бесконечности, ни тогда, ни сейчас. Если б нетерпеливая юность в лице Аринки не перешла в наступление. Мне – двадцать два, я еще не чувствую себя достаточно взрослой, но Арина – это, даже по отношению ко мне, уже другое поколение, никакими моральными устоями не зараженное. Она не ищет оправдания той разрушительной силе, которую направила на семью Малаховских и смела ее с лица земли. Ей был нужен мой отец, и она пришла взять его. Позиция восемнадцатилетних: почему я должна отказывать себе в том, что хочу?
А я не позволила себе этого. Мне хотелось уехать с отцом… Как же мне хотелось этого! Но буквально за пару дней до разрушительного явления Арины в нашей жизни бабушка, которую тайком навещаю в психиатрической больнице, вскользь намекнула, что вряд ли я прихожусь ему родной дочерью…
И вся моя необъяснимая ненависть к демонстративной женственности моей матери сразу нашла объяснения. Годами меня мучило непонимание того, почему я отторгаю ее, но лишь теперь все встало на свои места: эта белокурая красотка отобрала у меня отца еще до моего рождения. Лучше б это она оказалась мне не родной, ведь никакой кровной близости между нами никогда и не было… Тот человек, которого я считала им, тот единственно возможный и любимый отец, оказывается, был предан ею больше двадцати лет назад, а теперь еще и изгнан. А я даже не могла уехать за ним следом, потому что, если верить бабушке, я ему – никто. А я ей верю, хоть она и заперта в сумасшедшем доме».
* * *
Застряв в пробке на Тверском бульваре, Наташа подумала о том, что ей хорошо было бы родиться кротом, способным проложить под землей собственные юркие ходы. Несостоявшаяся жизнь мгновенно увиделась компьютерным мультиком: темнота несется навстречу, извиваясь гибким телом. Скорее! Еще скорее! Крот на летающей доске… Маленькая зверушка с лицом Натальи Малаховской.
Смех прозвучал для самой себя, как и все в жизни в последнее время… Хотя годами верила, что не для себя живет и чего-то добивается, о чем-то еще только мечтает. Но все – для своих детей. Чтобы они могли ею гордиться. Дочь и сын. Полноценная семья.
– Да, Сережа? – машинально ответила она на звонок. – Я помню, что встречаемся. Конечно… Еще ведь есть время? Ты пока настраивайся, настраивайся! Я только заскочу по одному делу…
Уже для себя добавила вслух: