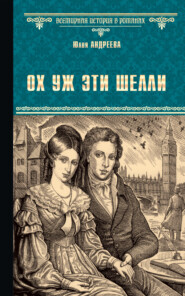По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Галина Вишневская. Пиковая дама русской оперы
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Три недели Мейерхольда, уже пожилого человека, истязали в застенках, выбивая из него показания. «…Меня здесь били – больного шестидесятишестилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам, боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток…», – писал Мейерхольд В. М. Молотову[27 - Вячеслав Михайлович Молотов (настоящая фамилия Скрябин; 1890–1986) – российский революционер, советский политический и государственный деятель. Председатель Совета народных комиссаров СССР в 1930–1941 годах, народный комиссар, министр иностранных дел СССР в 1939–1949, 1953–1956 годах. Один из высших руководителей ВКП(б) и КПСС с 1921 по 1957 гг. Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета СССР I–IV созывов.] в январе 1940 года.
В результате 1 февраля 1940-го Всеволод Эмильевич был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение на следующий день, 2 февраля.
На обработку в следственном изоляторе знаменитого режиссера ушел 21 день, если считать с момента ареста, а на 24-ый, в ночь с 14 на 15 июля 1939, двое неизвестных вломились в квартиру Мейерхольда в Брюсовском переулке и зверски убили его жену актрису Зинаиду Райх. Женщина отчаянно сопротивлялась, на ее теле были обнаружены семнадцать ножевых ранений, в своей книге Г. П. Вишневская пишет, будто бы глаза актрисы были выколоты. Актриса скончалась по дороге в больницу. Тайна ее смерти остается нераскрытой по сей день. Следствие подозревало друга Всеволода Эмильевича Заслуженного артиста РСФСР, солиста Большого театра Дмитрия Даниловича Головина[28 - Дмитрий Данилович Головин (1894–1966) – российский советский оперный певец, лирико-драматический баритон. Заслуженный артист РСФСР (1934).], а также его сына, режиссера Виталия Головина[29 - Виталий Дмитриевич Головин (1919–1979). Режиссер, сценарист.], действовавших якобы по прямому приказу Лаврентия Берии. Оба вскоре оказались в ГУЛАГе. После аналогичное обвинение было предъявлено В. Т. Варнакову, А. И. Курносову и А. М. Огольцову – все они были расстреляны.
По свидетельству Татьяны, дочери Зинаиды Райх от ее первого мужа Сергея Есенина[30 - Сергей Александрович Есенин (1895–1925) – русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества – имажинизма.], «мою маму убили в ночь на 15-е июля. Ее уже похоронили на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы Есенина. Почти никто не пришел, были родные и несколько посторонних почти людей; из тех, кто ходили всегда, никто не пришел… Они ничего не взяли, не ограбили, они пришли, чтобы убить, и ранили 7 раз около сердца и в шею, и она умерла через 2 часа, а Лидию Анисимовну побили по голове, и она жива… Кто это был, их было двое, и их не нашли»[31 - Из письма Татьяны, дочери Зинаиды Райх, Мариэтте Шагинян 20 июля 1939 года.]. «Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек», – писала в своем дневнике 13 марта 1941 года Ольга Берггольц[32 - Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975) – русская советская поэтесса, прозаик.].
В общем, в такое неспокойное, жестокое и бурное время росла будущая дива Большого театра, будущая народная актриса СССР Галина Вишневская, тогда Иванова.
Страшное время. Но если взрослые, знавшие и другие, лучшие времена, могли что-то противопоставить окружающему кошмару, по крайней мере, сравнивать и вспоминать, что говорить о детях, отравленных с самого рождения. Школьник стремится стать октябренком, октябренок – пионером, потом комсомолец, членом партии, выше, живее, смелее. Иди по дороге, выбранной для тебя, другой все равно не существует. Герой-пионер, всем детям пример – предатель Павел Морозов[33 - Павел Трофимович Морозов (1918–1932) – советский школьник, учащийся Герасимовской школы Тавдинского района Уральской области, в советское время получивший известность как пионер-герой, противостоявший кулачеству в лице своего отца и поплатившийся за это жизнью.], тот самый, что пожертвовал своими родными ради великой цели и погиб от рук кулаков. Всем равняться на Павку Морозова! Ать-два.
«Я помню свой первый настоящий триумф: мне девять лет, и я пою в школьном концерте, посвященном дню рождения Ильича, песню – конечно, о Ленине, – пишет Г. П. Вишневская. – И сегодня слышу еще этот жесткий маршеобразный мотив и слова:
«Песня наша, греми,
Набегай волной на мир!
Ленин жив, Ленин жив,
Ленин движет нами.
В городах, в деревнях
Грозный вал вздымается, бурля,
Громче песня – наше знамя!
Слышишь, Ленин? – дрожит земля!».
Когда я кончила петь, в зале началось что-то невообразимое – так все орали! Орали дети, орали родители – мне пришлось повторить песню еще два раза! И я сама орала ее неистово, как одержимая, как трибун, как фашистка: «Слышишь, Ленин? – дрожит земля!!!». А ведь я была ребенком – мне было только девять лет! О, я хорошо помню это первое мое ощущение сценического экстаза, истерического возбуждения. Но как же я должна была верить в то, о чем пою! Иначе мое выступление ни на публику, ни на меня не произвело бы такого громадного впечатления, что вошло в мою память на всю жизнь».
Вообще, такие черты как бешеный темперамент, взрывной характер, экстатичность, весьма свойственны нашей героине. Сама Вишневская связывает это с горячей цыганской кровью. Однажды, во время гастролей Галины Павловны в Саратове, ее пригласили петь «Тоску» в их театре. Так, в сцене убийства она чуть реально не прирезала их баритона, полоснув его по уху ножом. На самом деле нож должны были положить бутафорский, ни в одном профессиональном театре никогда не используют настоящее оружие. Вишневская в пылу сценического экстаза не поняла, что у нее в руках не легкая бутафория, а реальный, причем острый нож. Загадочная история, хоть детектив пиши, – кто решил убить или изуродовать артиста руками нашей героини?
Другой похожий случай произошел с Галиной в Вене: когда она играла в той же «Тоске», у нее на голове неожиданно загорелся искусственный шиньон. «В ажиотаже этой безумной по драматическому напряжению сцены я бегала с ножом в поднятой руке вокруг корчившегося в предсмертных судорогах Паскалиса, не зная, что произошло только что за моей спиной… как вдруг мой слух пронзил женский визг (первой закричала сидевшая в зале моя австрийская подруга Люба Кормут). В ту же секунду я услышала над своей головой треск, будто зашипела ракета фейерверка. Я почувствовала, как весь мой огромный шиньон поднялся вверх. В глазах замелькал ослепительный свет, и сквозь него я увидела вскочившего на ноги «убитого» мною Скарпиа… С криком «Фойер, фойер!» он ринулся ко мне и, схватив за руки, повалил меня на пол. Как молния мелькнула мысль: горит платье!.. Инстинктивно ухватившись за ковер, я пыталась зарыться в него лицом… Моих рук коснулось пламя… горят волосы!.. Схватив горящий шиньон обеими руками, я что есть силы стала рвать его и, наконец, выдрала вместе с собственными волосами… Вскочив на ноги, я увидела бегущих ко мне из всех кулис людей… Почему не слышно музыки?.. ведь я не докончила акта… почему меня уводят со сцены?..» И финал: «Видя, что я стою на ногах, директор выбежал перед занавесом и объявил, что, кажется, нет серьезных ожогов. Меня же заботила только одна мысль, что нужно срочно надеть новый шиньон и продолжить спектакль.
– Скорее принесите другой шиньон, слишком большая пауза!..
На меня смотрел директор театра как на кретинку.
– Вы что, собираетесь петь?
– Конечно… скорее принесите шиньон!
Я не замечала, что врач бинтует мне руки, что у меня сгорели ногти на обеих руках. Для меня во время исполнения роли все, что я делаю на сцене, так важно, как вопрос о жизни и смерти. Если бы мне отрезали голову, только тогда я не смогла бы допеть спектакля».
Летом 1941 года отец Гали отправился на новое место службы в Эстонию и, небывалое дело, пригласил дочь ехать с ним, с тем, чтобы к началу учебного года она вернулась в Кронштадт. Тарту сразу же понравился девочке, никогда прежде не бывавшей в ближнем зарубежье. Правда это теперь тоже был СССР, Эстония только-только «добровольно» присоединилась к нашей стране, так что эта поездка не считалась заграничной. «Какая была поразительная разница между той жизнью, которую я знала, и той, которую увидела! Я попала на другую планету. Люди так красиво одеты, и так вкусно они едят, и такая чистота на улицах! А живут все в отдельных квартирах, коммунальных здесь и не бывает. А за что же мне говорят «спасибо» в магазине? За то, что мне привалило счастье, и я купила эти сказочные туфли?! Нет, этого не может быть, тут что-то не так. Ну, конечно, все это происки капиталистов. Заманить, одурманить советского человека, а потом… Да нас не проведешь, нам об этом по радио каждый день говорят, это у нас и ребенку известно. Да и папаша мой ведет разъяснительную работу:
– Ничего, скоро прикончим эту сволочь, разожрались, паразиты!»
Великая Отечественная война застала Галю в Тарту, она спешно выехала вместе с летней воинской частью. Посадили в автобус с летчиками, и домой. «За эшелоном шел спецотряд – взрывали за собой мосты. Ехали днем и ночью. Да это было и не отступление, а просто паническое бегство. Остановились и опомнились уже в Торжке. Так началась для меня война. Так кончилось мое детство. Мне было четырнадцать лет».
Галина Вишневская в детстве. Ок. 1929 г.
Глава 3
Война
Линия фронта – это улыбка войны.
О’Санчес
Школы продолжали работать, и 1 сентября никто не отменял. Просто теперь наряду с обычными предметами там преподавали науку войны – нужно было уметь перевязать раненого, гасить зажигательные бомбы, обращаться с оружием.
Теория стремительно превращалась в практику. Прямым попаданием разрезало огромный линкор «Марат», стоявший в Петровской гавани. «Когда мы прибежали туда, глазам нашим представилось страшное зрелище: сотни матросов в одних тельняшках, среди них масса раненых, вплавь добираются до берега и в изнеможении падают на землю… Здесь же им оказывают первую помощь. Вода в гавани красная от крови. Первая кровь… Так вот что такое война!..»
А немцы уже под Ленинградом, бомбежки, обстрелы каждый день. И вот уже Галина голыми руками разбирает развалины только что, буквально минуту назад рухнувшего дома, чтобы вытащить оттуда хоть кого-нибудь. Тут же появляется первое горькое знание – «мертвые тяжелее живых», в воздухе запах битого кирпича и опаленного железа. В Ленинграде горят Бадаевские склады с продовольствием. Вывод напрашивается сам собой – урежут паек. То, что Кронштадт попадет в положение осажденного города, никто и не представлял.
Вообще, мы много говорим о блокаде Ленинграда, но ведь полностью зависящий от него Кронштадт страдал не меньше.
Война началась 22 июня, а уже 20 ноября 1941 года рацион хлеба составлял 125 граммов на иждивенческую карточку и 250 на рабочую. Кроме этого давали 300 грамм крупы и 100 грамм масла на месяц. А потом стали выдавать только хлеб. Спастись могли лишь те, у кого были какие-то запасы.
В домах и даже школах перестали топить, электричества нет совсем. Дома все сидят у коптилок – баночек с горючей жидкостью, из которой торчит маленький фитилек. В результате у всех прокопченные лица, копоть заполняет поры, морщины, собирается в уголках глаз. Никто не умывается, тем более не моется. А как мыться, когда в доме холоднее, чем на улице? Да и воду нужно таскать в квартиру ведрами. Перестали мыться – появились вши. Поначалу еще работали столовые, где можно было за талончик на 20 г крупы получить тарелку жидкого супа. Хоть что-то теплое, уже хорошо.
Губная помада, у кого она была, намазывалась на хлеб, от нее зубы были красные, как у вампира. А по улицам ночью шастали самые настоящие вурдалаки, те, кто потихоньку отрезали у мертвецов куски мяса. Непонятно, как они потом умудрялись готовить трофеи? Ведь почти все жили в коммуналках, а мясо, вари его или жарь, весьма сильно пахнет.
Если кто-то терял карточки, было понятно, что он вряд ли продержится до следующего месяца, поэтому многие не спешили выносить из домов покойников, продолжая получать хлеб на их карточки. Трудно представить, каково это было, жить в одной комнате с трупами.
В Галиной семье дядя Коля[34 - Брат отца.] и дядя Андрей ходили опухшие от голода, а бабушка так ослабла, что уже не могла подняться. Она ужасно мерзла и все время сидела возле буржуйки, на растопку которой пошли уже все шкафы, столы, досочка за досочкой уходил паркет.
Старались сохранить книги. Обливаясь слезами, отрывали переплеты и топили ими, только не любимые тексты, не любимых героев, не волшебные стихи, согревающие сердца, помогающие хотя бы ненадолго сбежать в волшебный мир. И еще работало радио, где кроме сводок с фронта звучали довоенные радиопостановки и стихи…
«У Фонтанного дома, у Фонтанного дома,
У подъездов, глухо запахнутых,
У резных чугунных ворот
Гражданка Анна Андреевна Ахматова,
Поэт Анна Ахматова
На дежурство ночью встает»[35 - Ольга Берггольц, из стихотворения «В 1941 году в Ленинграде».].
31 августа 1941 года повесилась Марина Цветаева в доме Бродельщиковых в Елабуге, куда вместе с сыном была определена на постой. За два года до этого ее муж Сергей Эфрон был расстрелян, еще раньше их дочь Ариадна[36 - Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975) – переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница, искусствовед, поэтесса (оригинальные стихи, кроме написанных в детстве, при жизни не печатались); дочь Сергея Эфрона и Марины Цветаевой.] попала в тюрьму. Эфрон был арестован НКВД 10 ноября 1939 года. Был множество раз пытан, но так и не согласился дать показания против близких ему людей. 16 октября 1941 года на Бутовском полигоне НКВД вместе с ним расстреляли 135 человек, нужно было спешно «разгрузить» переполненные тюрьмы.
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек».
Лилась «Песня о Родине» Исаака Дунаевского[37 - Исаак Осипович Дунаевский (полное имя Исаак Бер Иосиф Бецалев Дунаевский; 1900–1955) – советский композитор и дирижер, музыкальный педагог. Автор 13 оперетт и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен, народный артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских премий (1941, 1951). Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.] на стихи Василия Лебедева-Кумача[38 - Василий Иванович Лебедев-Кумач (настоящая фамилия – Лебедев; 1898–1949) – русский советский поэт, автор слов многих популярных советских песен.] из фильма «Цирк». Песня написана в 1936 году.
В результате Ариадна провела 8 лет в исправительно-трудовых лагерях и 6 лет в ссылке в Туруханском районе. Реабилитирована только в 1955 году.
Неудивительно, что Цветаева не нашла в себе силы продолжать неравную борьбу. Перед смертью поэтесса написала три предсмертные записки: тем, кто будет ее хоронить, «эвакуированным», Асеевым и сыну[39 - Цветаева Марина Ивановна. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969.]. Записка сыну: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Записка Асеевым: «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь – просто взять его в сыновья – и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – заслуживает. А меня – простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете – увезите с собой. Не бросайте!».
Записка «эвакуированным» (сама записка была изъята в качестве вещественного доказательства и затем утеряна. Текст ее был скопирован сыном Марины Георгием Эфроном): «Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом – сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте. Не похороните живой! Хорошенько проверьте».
Могила Цветаевой, так же как могила Мейерхольда, утеряна.
В результате 1 февраля 1940-го Всеволод Эмильевич был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение на следующий день, 2 февраля.
На обработку в следственном изоляторе знаменитого режиссера ушел 21 день, если считать с момента ареста, а на 24-ый, в ночь с 14 на 15 июля 1939, двое неизвестных вломились в квартиру Мейерхольда в Брюсовском переулке и зверски убили его жену актрису Зинаиду Райх. Женщина отчаянно сопротивлялась, на ее теле были обнаружены семнадцать ножевых ранений, в своей книге Г. П. Вишневская пишет, будто бы глаза актрисы были выколоты. Актриса скончалась по дороге в больницу. Тайна ее смерти остается нераскрытой по сей день. Следствие подозревало друга Всеволода Эмильевича Заслуженного артиста РСФСР, солиста Большого театра Дмитрия Даниловича Головина[28 - Дмитрий Данилович Головин (1894–1966) – российский советский оперный певец, лирико-драматический баритон. Заслуженный артист РСФСР (1934).], а также его сына, режиссера Виталия Головина[29 - Виталий Дмитриевич Головин (1919–1979). Режиссер, сценарист.], действовавших якобы по прямому приказу Лаврентия Берии. Оба вскоре оказались в ГУЛАГе. После аналогичное обвинение было предъявлено В. Т. Варнакову, А. И. Курносову и А. М. Огольцову – все они были расстреляны.
По свидетельству Татьяны, дочери Зинаиды Райх от ее первого мужа Сергея Есенина[30 - Сергей Александрович Есенин (1895–1925) – русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества – имажинизма.], «мою маму убили в ночь на 15-е июля. Ее уже похоронили на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы Есенина. Почти никто не пришел, были родные и несколько посторонних почти людей; из тех, кто ходили всегда, никто не пришел… Они ничего не взяли, не ограбили, они пришли, чтобы убить, и ранили 7 раз около сердца и в шею, и она умерла через 2 часа, а Лидию Анисимовну побили по голове, и она жива… Кто это был, их было двое, и их не нашли»[31 - Из письма Татьяны, дочери Зинаиды Райх, Мариэтте Шагинян 20 июля 1939 года.]. «Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек», – писала в своем дневнике 13 марта 1941 года Ольга Берггольц[32 - Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975) – русская советская поэтесса, прозаик.].
В общем, в такое неспокойное, жестокое и бурное время росла будущая дива Большого театра, будущая народная актриса СССР Галина Вишневская, тогда Иванова.
Страшное время. Но если взрослые, знавшие и другие, лучшие времена, могли что-то противопоставить окружающему кошмару, по крайней мере, сравнивать и вспоминать, что говорить о детях, отравленных с самого рождения. Школьник стремится стать октябренком, октябренок – пионером, потом комсомолец, членом партии, выше, живее, смелее. Иди по дороге, выбранной для тебя, другой все равно не существует. Герой-пионер, всем детям пример – предатель Павел Морозов[33 - Павел Трофимович Морозов (1918–1932) – советский школьник, учащийся Герасимовской школы Тавдинского района Уральской области, в советское время получивший известность как пионер-герой, противостоявший кулачеству в лице своего отца и поплатившийся за это жизнью.], тот самый, что пожертвовал своими родными ради великой цели и погиб от рук кулаков. Всем равняться на Павку Морозова! Ать-два.
«Я помню свой первый настоящий триумф: мне девять лет, и я пою в школьном концерте, посвященном дню рождения Ильича, песню – конечно, о Ленине, – пишет Г. П. Вишневская. – И сегодня слышу еще этот жесткий маршеобразный мотив и слова:
«Песня наша, греми,
Набегай волной на мир!
Ленин жив, Ленин жив,
Ленин движет нами.
В городах, в деревнях
Грозный вал вздымается, бурля,
Громче песня – наше знамя!
Слышишь, Ленин? – дрожит земля!».
Когда я кончила петь, в зале началось что-то невообразимое – так все орали! Орали дети, орали родители – мне пришлось повторить песню еще два раза! И я сама орала ее неистово, как одержимая, как трибун, как фашистка: «Слышишь, Ленин? – дрожит земля!!!». А ведь я была ребенком – мне было только девять лет! О, я хорошо помню это первое мое ощущение сценического экстаза, истерического возбуждения. Но как же я должна была верить в то, о чем пою! Иначе мое выступление ни на публику, ни на меня не произвело бы такого громадного впечатления, что вошло в мою память на всю жизнь».
Вообще, такие черты как бешеный темперамент, взрывной характер, экстатичность, весьма свойственны нашей героине. Сама Вишневская связывает это с горячей цыганской кровью. Однажды, во время гастролей Галины Павловны в Саратове, ее пригласили петь «Тоску» в их театре. Так, в сцене убийства она чуть реально не прирезала их баритона, полоснув его по уху ножом. На самом деле нож должны были положить бутафорский, ни в одном профессиональном театре никогда не используют настоящее оружие. Вишневская в пылу сценического экстаза не поняла, что у нее в руках не легкая бутафория, а реальный, причем острый нож. Загадочная история, хоть детектив пиши, – кто решил убить или изуродовать артиста руками нашей героини?
Другой похожий случай произошел с Галиной в Вене: когда она играла в той же «Тоске», у нее на голове неожиданно загорелся искусственный шиньон. «В ажиотаже этой безумной по драматическому напряжению сцены я бегала с ножом в поднятой руке вокруг корчившегося в предсмертных судорогах Паскалиса, не зная, что произошло только что за моей спиной… как вдруг мой слух пронзил женский визг (первой закричала сидевшая в зале моя австрийская подруга Люба Кормут). В ту же секунду я услышала над своей головой треск, будто зашипела ракета фейерверка. Я почувствовала, как весь мой огромный шиньон поднялся вверх. В глазах замелькал ослепительный свет, и сквозь него я увидела вскочившего на ноги «убитого» мною Скарпиа… С криком «Фойер, фойер!» он ринулся ко мне и, схватив за руки, повалил меня на пол. Как молния мелькнула мысль: горит платье!.. Инстинктивно ухватившись за ковер, я пыталась зарыться в него лицом… Моих рук коснулось пламя… горят волосы!.. Схватив горящий шиньон обеими руками, я что есть силы стала рвать его и, наконец, выдрала вместе с собственными волосами… Вскочив на ноги, я увидела бегущих ко мне из всех кулис людей… Почему не слышно музыки?.. ведь я не докончила акта… почему меня уводят со сцены?..» И финал: «Видя, что я стою на ногах, директор выбежал перед занавесом и объявил, что, кажется, нет серьезных ожогов. Меня же заботила только одна мысль, что нужно срочно надеть новый шиньон и продолжить спектакль.
– Скорее принесите другой шиньон, слишком большая пауза!..
На меня смотрел директор театра как на кретинку.
– Вы что, собираетесь петь?
– Конечно… скорее принесите шиньон!
Я не замечала, что врач бинтует мне руки, что у меня сгорели ногти на обеих руках. Для меня во время исполнения роли все, что я делаю на сцене, так важно, как вопрос о жизни и смерти. Если бы мне отрезали голову, только тогда я не смогла бы допеть спектакля».
Летом 1941 года отец Гали отправился на новое место службы в Эстонию и, небывалое дело, пригласил дочь ехать с ним, с тем, чтобы к началу учебного года она вернулась в Кронштадт. Тарту сразу же понравился девочке, никогда прежде не бывавшей в ближнем зарубежье. Правда это теперь тоже был СССР, Эстония только-только «добровольно» присоединилась к нашей стране, так что эта поездка не считалась заграничной. «Какая была поразительная разница между той жизнью, которую я знала, и той, которую увидела! Я попала на другую планету. Люди так красиво одеты, и так вкусно они едят, и такая чистота на улицах! А живут все в отдельных квартирах, коммунальных здесь и не бывает. А за что же мне говорят «спасибо» в магазине? За то, что мне привалило счастье, и я купила эти сказочные туфли?! Нет, этого не может быть, тут что-то не так. Ну, конечно, все это происки капиталистов. Заманить, одурманить советского человека, а потом… Да нас не проведешь, нам об этом по радио каждый день говорят, это у нас и ребенку известно. Да и папаша мой ведет разъяснительную работу:
– Ничего, скоро прикончим эту сволочь, разожрались, паразиты!»
Великая Отечественная война застала Галю в Тарту, она спешно выехала вместе с летней воинской частью. Посадили в автобус с летчиками, и домой. «За эшелоном шел спецотряд – взрывали за собой мосты. Ехали днем и ночью. Да это было и не отступление, а просто паническое бегство. Остановились и опомнились уже в Торжке. Так началась для меня война. Так кончилось мое детство. Мне было четырнадцать лет».
Галина Вишневская в детстве. Ок. 1929 г.
Глава 3
Война
Линия фронта – это улыбка войны.
О’Санчес
Школы продолжали работать, и 1 сентября никто не отменял. Просто теперь наряду с обычными предметами там преподавали науку войны – нужно было уметь перевязать раненого, гасить зажигательные бомбы, обращаться с оружием.
Теория стремительно превращалась в практику. Прямым попаданием разрезало огромный линкор «Марат», стоявший в Петровской гавани. «Когда мы прибежали туда, глазам нашим представилось страшное зрелище: сотни матросов в одних тельняшках, среди них масса раненых, вплавь добираются до берега и в изнеможении падают на землю… Здесь же им оказывают первую помощь. Вода в гавани красная от крови. Первая кровь… Так вот что такое война!..»
А немцы уже под Ленинградом, бомбежки, обстрелы каждый день. И вот уже Галина голыми руками разбирает развалины только что, буквально минуту назад рухнувшего дома, чтобы вытащить оттуда хоть кого-нибудь. Тут же появляется первое горькое знание – «мертвые тяжелее живых», в воздухе запах битого кирпича и опаленного железа. В Ленинграде горят Бадаевские склады с продовольствием. Вывод напрашивается сам собой – урежут паек. То, что Кронштадт попадет в положение осажденного города, никто и не представлял.
Вообще, мы много говорим о блокаде Ленинграда, но ведь полностью зависящий от него Кронштадт страдал не меньше.
Война началась 22 июня, а уже 20 ноября 1941 года рацион хлеба составлял 125 граммов на иждивенческую карточку и 250 на рабочую. Кроме этого давали 300 грамм крупы и 100 грамм масла на месяц. А потом стали выдавать только хлеб. Спастись могли лишь те, у кого были какие-то запасы.
В домах и даже школах перестали топить, электричества нет совсем. Дома все сидят у коптилок – баночек с горючей жидкостью, из которой торчит маленький фитилек. В результате у всех прокопченные лица, копоть заполняет поры, морщины, собирается в уголках глаз. Никто не умывается, тем более не моется. А как мыться, когда в доме холоднее, чем на улице? Да и воду нужно таскать в квартиру ведрами. Перестали мыться – появились вши. Поначалу еще работали столовые, где можно было за талончик на 20 г крупы получить тарелку жидкого супа. Хоть что-то теплое, уже хорошо.
Губная помада, у кого она была, намазывалась на хлеб, от нее зубы были красные, как у вампира. А по улицам ночью шастали самые настоящие вурдалаки, те, кто потихоньку отрезали у мертвецов куски мяса. Непонятно, как они потом умудрялись готовить трофеи? Ведь почти все жили в коммуналках, а мясо, вари его или жарь, весьма сильно пахнет.
Если кто-то терял карточки, было понятно, что он вряд ли продержится до следующего месяца, поэтому многие не спешили выносить из домов покойников, продолжая получать хлеб на их карточки. Трудно представить, каково это было, жить в одной комнате с трупами.
В Галиной семье дядя Коля[34 - Брат отца.] и дядя Андрей ходили опухшие от голода, а бабушка так ослабла, что уже не могла подняться. Она ужасно мерзла и все время сидела возле буржуйки, на растопку которой пошли уже все шкафы, столы, досочка за досочкой уходил паркет.
Старались сохранить книги. Обливаясь слезами, отрывали переплеты и топили ими, только не любимые тексты, не любимых героев, не волшебные стихи, согревающие сердца, помогающие хотя бы ненадолго сбежать в волшебный мир. И еще работало радио, где кроме сводок с фронта звучали довоенные радиопостановки и стихи…
«У Фонтанного дома, у Фонтанного дома,
У подъездов, глухо запахнутых,
У резных чугунных ворот
Гражданка Анна Андреевна Ахматова,
Поэт Анна Ахматова
На дежурство ночью встает»[35 - Ольга Берггольц, из стихотворения «В 1941 году в Ленинграде».].
31 августа 1941 года повесилась Марина Цветаева в доме Бродельщиковых в Елабуге, куда вместе с сыном была определена на постой. За два года до этого ее муж Сергей Эфрон был расстрелян, еще раньше их дочь Ариадна[36 - Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975) – переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница, искусствовед, поэтесса (оригинальные стихи, кроме написанных в детстве, при жизни не печатались); дочь Сергея Эфрона и Марины Цветаевой.] попала в тюрьму. Эфрон был арестован НКВД 10 ноября 1939 года. Был множество раз пытан, но так и не согласился дать показания против близких ему людей. 16 октября 1941 года на Бутовском полигоне НКВД вместе с ним расстреляли 135 человек, нужно было спешно «разгрузить» переполненные тюрьмы.
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек».
Лилась «Песня о Родине» Исаака Дунаевского[37 - Исаак Осипович Дунаевский (полное имя Исаак Бер Иосиф Бецалев Дунаевский; 1900–1955) – советский композитор и дирижер, музыкальный педагог. Автор 13 оперетт и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен, народный артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских премий (1941, 1951). Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.] на стихи Василия Лебедева-Кумача[38 - Василий Иванович Лебедев-Кумач (настоящая фамилия – Лебедев; 1898–1949) – русский советский поэт, автор слов многих популярных советских песен.] из фильма «Цирк». Песня написана в 1936 году.
В результате Ариадна провела 8 лет в исправительно-трудовых лагерях и 6 лет в ссылке в Туруханском районе. Реабилитирована только в 1955 году.
Неудивительно, что Цветаева не нашла в себе силы продолжать неравную борьбу. Перед смертью поэтесса написала три предсмертные записки: тем, кто будет ее хоронить, «эвакуированным», Асеевым и сыну[39 - Цветаева Марина Ивановна. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969.]. Записка сыну: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Записка Асеевым: «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь – просто взять его в сыновья – и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – заслуживает. А меня – простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете – увезите с собой. Не бросайте!».
Записка «эвакуированным» (сама записка была изъята в качестве вещественного доказательства и затем утеряна. Текст ее был скопирован сыном Марины Георгием Эфроном): «Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом – сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте. Не похороните живой! Хорошенько проверьте».
Могила Цветаевой, так же как могила Мейерхольда, утеряна.