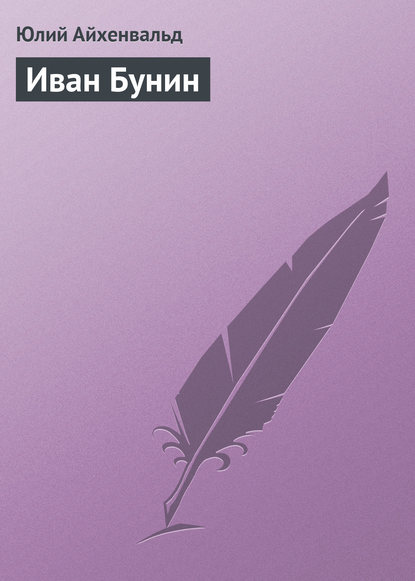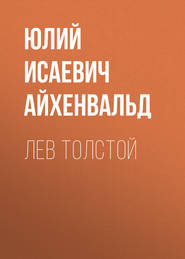По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иван Бунин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но зато как привлекательна у него та философия, которая сама вытекает из поэтического созерцания, которая не остыла еще от непосредственного постижения! Он стоит, например, у берегов Малой Азии, где было царство Амазонок:
… были дики
Их буйные забавы. Много дней
Звучали здесь их радостные клики
И ржание купавшихся коней.
Но век наш – миг. И кто укажет ныне,
Где на песке ступала их нога?
Не ветер ли среди морской пустыни?
Не эти ли нагие берега?
Так все проходит, и «прибрежья, где бродили тавро-скифы, уже не те», но в вечности любви опять сливаются разлученные веками поколенья, и на те же. на прежние звезды смотрят и ныне любящие женские глаза. И ночью, космической ночью, все море насыщено тонкою пылью света. Бунин вообще верит солнцу и в солнце, в Бальдера своего; он знает, что неиссякаемы родники вселенной и неугасима лампада человеческой души. И даже когда мы сгорим, в нас не умрет наша вечная жизнь, и свет избранников, теперь еще «незримый для незрящих», дойдет к земле через много, много лет, подобно тому как звезды – неугасимый свет таких планет, которые сами давно померкли. И, может быть, не только избранники, но и все мы – будущие звезды. В самом деле, не кроткой ли и радующей звездою загорится в небе та, которая в «Эпитафии» говорит о себе: «я девушкой-невестой умерла… в апрельский день я от людей ушла, ушла навек, покорно и безгласно», или та, с кокетливо-простой «прической и пелеринкой на плечах», чей портрет – в часовенке над склепом и чьи большие ясные глаза, в раме, перевитой крепом, как будто спрашивают: «Зачем я в склепе – в полдень, летом»?..
Верный солнцу, уловленный его «золотым неводом», послушный природе, Бунин ей не противоборствует: весна говорит ему о бессмертии, осень навевает думы печальные. Он так чудно показал, что «опять, опять душа прощает промелькнувший, обманувший год». Душа прощает природе и судьбе. Невозможно противиться «томному голоду» и зову весны, светлому и нежному небу, которое что-то обещает, и бедное, доверчивое сердце человека опять ожидает ласки и любви, чтобы опять их не дождаться. У Бунина не только «душа на миг покорна», но и вообще он покорен мирозданью, хотя, в отдельные мгновенья, когда «восходит на востоке мертвец-Сатурн и блещет как свинец», у поэта возникают уже не благочестивые мысли о Творце-труженике, рассеивающем в мире «огненные зерна» звезд, а трепетное осуждение: «воистину зловещи и жестоки твои дела, творец!» Эта общая, лишь на минуты колеблемая покорность Бунина имеет свой источник в уже упомянутой способности его проводить хотя бы темные, грустные нити между собою и остальным, побеждать века и пространства. Так далеко, под Хевроном, вышел он из-под черной палатки, и душа его долго искала хоть единой близкой души в полумраке и повторяла «сладчайшее из слов земных – Рахиль!».
… Светили
Молчаливые звезды над старой
Позабытой землею… В могиле
Почивал Авраам с Исааком и Саррой…
И темно было в древней гробнице Рахили.
Так развернулись мировые дали и потом опять сомкнулись в объединяющем сердце поэта. Оно – всему родное. И оттого вас не поражает, что у Бунина звучат и мотивы экзотические, что не только земля и далекие земли, но и «удав» океана, с его гигантскими пароходами, и вся отвага моря, «синяя нирвана моря», и храм Солнца, и египетские сфинксы – все находит в нем певца и глашатая. У него широка – может быть, слишком широка – география, у него слишком часто раздаются имена чужие и чуждые слуху – но есть и центр: его поэтическая индивидуальность, которая все это разное связывает в одну величавую красоту. Так сочетается в Бунине прошедшее и настоящее, что даже природа лежит перед ним не только теперешняя, но и старая, сказочная – такая, какой она была тогда, когда мелколесьем скакал древний князь и сорока нагадала ему смерть его сына, когда «солнце мутное Жар-Птицей горело в дебрях вековых», и ковыль расстилался перед полком Игоревым, и воткнутое в курган торчало копье мертвого богатыря, и Баба-Яга ругала себя:
Черт тебе велел к черту в слуги лезть.
Дура старая, неразумный шлык!
Вся эта стихия Васнецова близка и Бунину.
Медленно создается, выдвигается художественное миросозерцание нашего поэта, как медленно приходила к нему и слава его. Но уже издавна показывает оно, что сама* характерная черта в нем это внутреннее соединение реальности и мифа, осязательной определенности и безграничного. Бунин принял обе эти категории, связал их в одну жизнь и, любовно и внимательно подойдя к малому, этим приобщил к себе и великое. Он не отвернулся от самой прозаической действительности и все же стал поэтом. Откровенный, свободный духом, он в честном творчестве своем не постыдил своего оригинального таланта и сделал все, что мог и может. А может он многое. Ему послушны и нежные, и стальные слова; мастер сосредоточенного сонета, который он стальным клинком вырезал и на высоте, на изумрудной льдине, он – повелитель сжатого и глубокого слова, живой образец поэтической концентрации, – и в то же время всю упоительную ipesy и сладострастие восточной музыки, всплески «Бахчисарайского фонтана» умеет он передавать в этих нежащих стихах:
Розы Шираза
Пой, соловей! Они томятся
В шатрах узорчатых мимоз,
На их ресницах серебрятся
Алмазы томных крупных слез.
Сад в эту ночь – как сад Ирема;
И сладострастна, и бледна,
Как в шакнизир – тайник гарема,
В узор ветвей глядит луна.
Белеет мел стены неясно.
Но там. где свет, его атлас
Горит так зелено и страстно,
Как изумруд змеиных глаз.
Пой, соловей! Томят желанья.
Цветы молчат – нет слов у них:
Их сладкий зов – благоуханья.
Алмазы слез – покорность их.
Не чуждый страсти, но больше прозрачный, кристальный, студеный, Бунин, как ручей его стихотворения, медлительно и неуклонно пришел к морю, к мировому морю, которое и приняло его
В безбрежность синюю свою,
В свое торжественное лоно.
В дивном стихотворении «Христос», которое пронизано светом полудня и лучезарно в самых звуках своих, он рассказывает, как живописцы по лесам храма шли в широких балахонах, с кистями, в купол – к небесам; они, вместе с малярами, пели там песни и писали Христа, который слушал их, и все им казалось, что
…под эти
Простые песни вспомнит
Он Порог на солнце в Назарете,
Верстак и кубовый хитон.
Ибо ближе всего ко Христу хитон повседневный и песни простые; оттого и Бунин, певец простых и прекрасных песней, художник русской действительности, сделался близок и к Палестине, и к Египту, к религии – ко всей красоте и ко всей широте мироздания. Его достойная поэтическая тропа привела его от временного к вечному, от близкого к далекому, от факта к мифу. И потому его странничество, его неутомимая тоска по морям и землям получает высшее оправдание, и до предельных высот религиозной красоты доходит у него вот это стихотворение, одно из самых глубокомысленных во всей литературе:
Зов
Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое
И сети зыбких вант; как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски, —
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать – в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду,
В родные гавани во веки я не вниду,
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,
Все будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана:
Да, чутко встану я на голос Капитана!
Да, если мир – море и правит его кораблями некий Капитан, то среди самых чутких к Его голосу, среди ревностных Божьих матросов, находится и поэт Бунин…
II. О некоторых его рассказах и стихах
Душа поэта говорит стихами. И лучше стихов все равно не скажешь. Вот почему уже заранее подумает иной, что проза Бунина, большого поэта, меньше его стихотворений. Но это не так. И даже многие читатели ставят их ниже его рассказов. Но так как Бунин вообще с удивительным искусством возводит прозу в сан поэзии, не отрицает прозы, а только возвеличивает ее и облекает в своеобразную красоту, то одним из высших достоинств его стихотворений и его рассказов служит отсутствие между ними принципиальной разницы. И те, и другие – два облика одной и той же сути. И там, и здесь автор – реалист, даже натуралист, ничем не брезгающий, не убегающий от грубости, но способный подняться и на самые романтические высоты, всегда правдивый и честный изобразитель факта, из самых фактов извлекающий глубину, и смысл, и все перспективы бытия. Когда читаешь, например, его «Чашу жизни», то одинаково воспринимаешь красоту и строк ее, и стихов. В этой книге – обычное для Бунина.
Все та же необычайная обдуманность и отделанность изложения, строгая красота словесной чеканки, выдержанный стиль, покорствующий тонким изгибам и оттенкам авторского замысла. Все та же спокойная, может быть, несколько надменная власть таланта, который одинаково привольно чувствует себя и в самой близкой обыденности, в русской деревне или уездном городе Стрелецке, и в пышной экзотике Цейлона. Читая о последнем, такое чувство испытываешь, будто самые слова горячи, дышат зноем его, жаром полудня, во время которого «золотыми стрелами снуют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными»; видишь и слышишь, кажется, как «ночь быстро гасила сказочно-нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек; летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно звеня цикадами и цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки». Солнце востока, лучами которого «впрягаются люди в жизнь и, впрягаясь, умирают», зажгло какую-то оргию цветного в роскошной природе Цейлона, – и все эти цветы и цвета воспроизводит победительное слово Бунина. Восточная нега, люди и вещи залиты потоками тропического огня, и в соответствие этой внешней обстановке слышится голос Возвышенного, трагическая мудрость Будды, философия беспрестанных воплощений. Как бы сам зараженный и пронизанный нестерпимыми чарами Коломбо, приобщившийся к миросозерцанию и фразеологии Востока говорит наш писатель в духе и тоне его, красотами восточного слога. Когда умирает старый сингалез, рикша, перевозивший на себе чужеземцев, этот непосильный труд взявший на себя потому, что он любил свою семью и движим был земной любовью, «тем, что от века призывает все существа к существованию». – когда умирает старый сингалез вместе с солнцем, «закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств… в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков», то скорбит его жена и плачет, – и по этому повод) замечает со своими героями, с их природой сроднившийся автор: «возвышенный уподобил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела». Литературное чудо осуществляет Бунин, изумительно сочетает он послушные ему слова и на той хотя бы странице своего цейлонского повествования, где описывает самоубийство другого рикши, сына первого, стройного юноши. Легконогий юноша этот отбросил тонкие оглобли своей колясочки, «в которые рано, но не надолго впрягла его жизнь», отбросил самую жизнь, только что начавшуюся, потому что его девочка-невеста, с черной круглой головкой, ушла от него порочной дорогой к европейцам на забаву; и вот он сразу и твердо положил свою левую руку на черные с зеленым кольца красавицы-змеи, и она три раза укусила его смертельными укусами «Впрочем, кто знает, как именно сделал он это? Твердыми или дрожащими руками? Быстро, решительно или нет? А после того долго ли колебался? Долго ли смотрел на темный шумящий океан, на слабый звездный свет, на Южный Крест, Ворона, Канопус?» После нескольких обмираний по частям унесли от него ядовитые лобзания змеи всю его душу и все его тело – «и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то».
Если про сказочные экзотические области позволительно вести рассказ, украшенный драгоценными инкрустациями Востока, сплетая причудливые арабески образов, то родная страна требует от своего повествователя совсем другой манеры, другого стиля – и этому новому требованию так же художественно удовлетворяет Бунин. Высокий мастер, он, например, в очерке «Святые» для старого Арсенича, бывшего дворового человека, имеющего «прелестный слезный дар», нашел такие речи, в его нетрезвые, но искренне умиленные уста вложил такие обороты слов, от книжности и от собственной души Арсенича идущие, что поистине переживает читатель эстетическое восхищение. И когда детям, Ваде и Мите, любопытными душами своими пьющим рассказы Арсенича, он, красноречивый старик, передает своеобразные Четьи-Минеи свои, легенды о святых, передает вместе забавно и трогательно, наивно и торжественно, то впечатление святости получается не только от сюжета его сказаний, но и от самого сказителя и его маленьких слушателей; начинаешь понимать, что действительно возможны святые и как они возможны; становится ясно, что если есть такая святая простота, как Арсенич и дети, то именно они собою восполняют предание о чужой святости, психологически реализуют его, и святое в мире принимает характер несомненного и радостного факта.
Но если каждое событие у Бунина помещается, так сказать, в гнезде неизбежно соответственных слов, если эти слова подобраны с классической красотою и безусловной убедительностью, то самым событиям такая обязательность у него не всегда присуща.
Чтобы дела и люди должны были быть непременно такими, как их изобразил Бунин; чтобы логика происшествий складывалась именно так, а не иначе, чтобы катастрофы были непреоборимы, – этого сказать нельзя. Он допускает сопротивление читателя; он не каждый раз подчиняется закону достаточного основания. Фактически автор всегда прав; он не только не позволяет себе жизнь оболгать, но и проявляет щепетильно-точное и бережное отношение к ее подлиннику, и с этим подлинным все у него верно. И полная возможность его событий – вне сомнения. Но только возможность, а не необходимость. Он воспроизводит факты, но бывает у него и так, что факт не совпадает с категорией. Получается житейская правда, но не жизненная истина, случай, а не повелительная психология. Взять хотя бы упомянутое самоубийство юного рикши – разве оно неизбежно? Мы принимаем его, оно хорошо мотивировано; но если бы дело обошлось как-нибудь по-иному, то и тогда была бы не меньшая вероятность. И то, что случилось в рассказе «При дороге» (дикий, сумбурный роман крестьянской девушки); и то, что рассказано в «Чаше жизни» (обращение героя с женой); и то, что в «Братьях» поведано про англичанина (под влиянием болезни и цейлонского климата он вдруг из равнодушного дельца превратился в глубокого философа с тревожной мыслью и совестью), – все это очень могло быть, но могло и не быть; нет психологической неотразимости, и на писательский произвол допустим здесь читательский запрет. Прекрасен мрачной красотою рассказ «Весенний вечер», и ужасная катастрофа его почти неизбежна – но почти все-таки остается: автор имел возможность сделать выбор, и если бы он захотел, то не произошла бы удобная для убийцы случайность (не отлучилась бы хозяйка из избы), и вообще какой-нибудь другой оборот могло бы принять настроение пьяного крестьянина, и не взял бы он в руки камня, которым перебил горло нищего старика, и нищий не был бы убит, но сердце автора сделало именно жестокосердый выбор…
Естественный отбор событий, единственно необходимый, вообще представляет в литературе большую и бесценную редкость. На выбор той или другой комбинации, на предпочтение одного узора судеб другому, на ход и исход биографии влияет, конечно, творческая субъективность писателя. И вот, субъективности Бунина свойственно между другими, даже противоположными чертами, и что-то недоброе, жестокое или, по крайней мере, ожесточившееся. Он далеко не исчерпывается той лирикой сочувствия, той растроганностью, которая нередко дышит в его прозе и особенно в его стихах. Вот два примера этой сочувственности. Первый – в стихотворении «Плач ночью», где сострадание возведено и в космические, в божественные сферы:
Плакала ночью вдова:
Нежно любила ребенка, но умер ребенок.
Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0