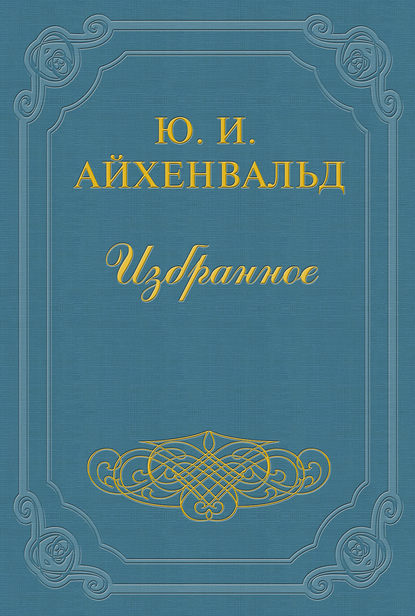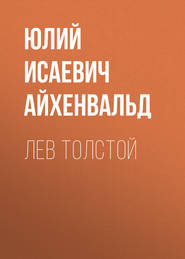По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Щербина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И боль от того унялася,
И радостно видела ты,
Как я побежала, резвяся,
За бабочкой пестрой в кусты…
Пора наступила иная,
И боль загорелася вновь…
Боюсь я признаться, родная,
Что жалит мне сердце любовь!
Но тем же и этой порою
Ты можешь меня исцелить:
Могильной холодной землею
Навеки мне сердце покрыть.
Для того чтобы не возникла эта сердечная драма, для того чтобы сердца не пришлось лечить могилой, лучше пусть девушка останется Миньоной, пусть длится ее утро и дольше не настанет ее полдень:
О, постой же на этом мгновеньи…
Не люби, не цвети и не зрей!
Красота – не только в женщине, но и в искусстве. Великая традиция Фидия и Апеллеса живет в мире, который не довольствуется красотою одной природы, но и воспроизводит ее в человеческом вдохновенном творчестве. При этом, однако, отношение Щербины к искусству – какое-то двойственное, и это, может быть, связано с тем, что он вообще не имеет цельного мировоззрения и в поэзии его отсутствует даже какая-нибудь глубокая и оттого примечательная односторонность. Именно он ставит искусство, т. е. в известном смысле цитату, нечто вторичное и воспроизведенное, так высоко, что перед ним бледнеет непосредственная красота мира. Весна, покидая землю, оставляет свои краски поэту, и она уверена, что благодаря ему люди даже и не заметят ее отсутствия. Изменят женщины, поблекнут их цветущие лица, все разрушится, все обманет, —
Только в искусстве таится прямое блаженство,
Только в искусстве – обещанный людям Элизий.
Но с другой стороны, Щербина исповедует более скептическую мысль, что «искусство, уж это – несчастие наше, о дети!». Искусство возникает уже тогда, когда в человеке зарождаются «потребы бесконечного духа», неудовлетворенные и неудовлетворимые стремления. Искусство – порыв к идеалу, и оно лишь оттеняет всю печаль и бедность реального. Оно – результат лишений; это – бедность и горе, слабый отзвук потерянного рая. Какая грусть и скудость в поэзии! И потому девочки, которые просят почитать им стихи, на самом деле в последних не нуждаются: они сами – воплощенные поэтические создания, живое созвучие.
Служитель искусства, поэт, наместник весны, имеет еще и другую – социальную важность, хотя сам Щербина уклоняется от песен, чуждых вечности:
То моя отвергла лира,
Что проходит с каждым днем.
Но и здесь он не остается последовательным, верным себе: осуждая русскую «безобщественность», он считает поэта совестью века, называет его «человеком передовым» и благословляет его на высокие подвиги духа:
Да звучит твой стих обронный,
Правды Божией набат,
В пробужденье мысли сонной,
В кару жизни беззаконной,
На погибель всех неправд!
Вообще, несмотря на указанное желание откликаться только на вечные темы, Щербине не чужды ни сатирические выходки против людей и нравов, ни более серьезные гражданские мотивы, и в потаенных складках его стихов, искаженное цензурой, все-таки живет презрение к злой традиции, к жизни беззаконной, к неправедной современности. Он помнит Рылеева и тот равелин,
Где, окованный цепями,
Гаснул русский гражданин.
То, что узника сжимают черные стены темницы, а за этими стенами ликует природа и поют малиновки; то, что узнику небо, и горы, и пашни виднеются из тюремного оконца, – это представляет собою не только насилие над человеком, но и оскорбление природы во всем ее целом; ибо самая сущность ее – свобода, и если не свободно хотя бы малейшее ее создание, то это уже вопиет к небу, вопиет к ней – тем более когда свободу отнимают у ее лучшего творения, у ее любимого сына. Именно потому, что кругом – рабство и тьма, одного солнца мало Щербине; он хочет зажечь другое, и это другое солнце будет свобода. Когда-нибудь «два солнца засветят с небес» – это будет победа Прометея над Зевсом, человека над Богом.
Такую победу поэт считает необходимой: надо довершить дело Прометея. Личного Бога Щербина не признает. Но это не столько атеизм, сколько пантеизм, который и составляет пафос его поэзии. Как характерно выражается наш эллин, он чувствует «сострастье» ко всей природе и узнает себя в ней и ее в себе: «тайные струны природы в струнах души отзовутся». Мир для него – одно существо, и есть мировая душа, как единство отдельных дыханий. Все кругом трепещет и чувствует, и жизнь – великое Одно. И потому, когда поэт, слыша в себе и кругом себя «звучащий рой всеструнных ощущений», бродит по лесу, он, как носитель вечности, как воплощенное бессмертие и кладезь жизни, чует вокруг себя не только все теперь живущие твари земной планеты, но и все отжившие; для него раскрываются вселенские тайны, и тогда он сознает, что на земле обитает не одно видимое население, но и то, чего он не видит, не слышит, не осязает и что воспринимает «смутным души ощущением». И поэтому он с «жадным сострастьем родственно внемлет мелодии листьев»; и утром, когда мир так свеж, он идет по горам и долинам и чувствует себя частью целого, единой каплей в океане живого. И он боится, как бы своей стопой не раздавить чужой жизни:
И тихой стопою
Я буду на горы взбираться:
Боюсь раздавить я ногою
Червя, что ползет под травою
Сияньем тепла наслаждаться;
Исполнен вниманьем
Для всякой летающей крошки,
И, груди сдержав колыханье,
В себя не втяну я дыханьем
В лучах затерявшейся мошки.
В мировом океане живого не все, однако, живет одновременно, и там, где такой избыток жизни, роскошествует и смерть. Вот кузнечики завидуют долговечности сосен и елей, которые никогда, никогда не скидают своей зеленой одежды; соловей славит жизнь, но для него она мимолетна: он с розой рождается и с быстро вянущей розой умирает, и он завидует людям, которые могут в течение своего века прослушать многие песни многих соловьев; но и человек жалуется, что седеют его волосы и замирает его сердце, когда-то полное трепета и страсти. Все умирает; только бессмертно самое вместилище жизни, только не иссякает самый источник ее – неугасимое солнце; не знает кончины мир как целое, мир, во веки веков исполненный «страстных, вакхических стремлений» и никогда их не утоляющий:
Ты только счастлив своею бессменной
И несходящей весною,
Ты только вечен, румянец вселенной,
В небе горящий звездою.
Оттого и обидно умирать, так горько не быть – «горе не жившим и горе отжившим!». И с ужасом чувствует каждое я свое одиночество и быстротечность.
Чувствую, силы мои,
Юные силы слабеют;
Слышу – холодную руку
Смерть положила на сердце,
Страстное сердце мое…
Что же, разлитая всюду,
Царствует жизнь предо мною,
Все проникая собой?
Что же нигде я в природе
Образа смерти не вижу?
Я оглушен, ослеплен дифирамбом
Вечно стремящейся жизни,
Вихрем ее увлекаем,
И отстаю я от хода людей
В этом вакхическом беге, средь кликов,
Плясок и песен…
В самом деле: есть в мире полноводный родник живой воды, есть в мире бесконечная возможность жизни – и тем не менее каждое индивидуальное существо обречено умереть. Какая трагедия, какая насмешка! Отдавать последнее трепетание своего тела, когда кругом трепещет любовь; задыхаться, когда около меня все дышит, когда окрест меня в беспредельных пространствах такое буйство жизни! Умирать при звуках мирового дифирамба, под ликование опьяненного и опьяняющего космического Вакха; уходить, когда все приходит, когда ласкает весна, с юга лазурного веет зноем и легкой прохладой, и глазами, темнеющими от наклонившейся смерти, видеть, как земля, одетая в зеленое, пирует свой брачный пир и не замечает наших похорон или отпускает нас без жалости и с насмешкой, – таков удел всего отдельного. «Много есть жизни в природе», и отдельное мечтает, говорит: «Жизнь я займу у природы»; но природа, такая богатая, такая неисчерпаемо-изобильная, не дает взаймы больше того, что она отмерила, и не делится с нами избытком своей жизни.
Именно оттого в душе человека, в душе поэта, и воцаряется в конце концов мертвенная тишина.
Я наложил печать глубокого молчанья
На сердце страстное, на громкие уста;
Мной жажда вечная горящего желанья
Отчаяньем холодным залита.
На высоте одного только сочувствия живому не останешься, и сострастие фатально уступает свое место бесстрастию. Вот мир рисовался Щербине как сладострастный гинекей, и всю природу оживлял он как единое божество, и говорило ему искусство, говорило всеми своими формами, и всеми своими красками, и всеми своими звуками, – но все это не спасло его от внутренней беззвучности, и в заключении его поэтической книги мы читаем про эту безотрадную тишь:
В моей душе давно минули бури;
Уж мне чужда теперь их мрачная краса
И надо мной без туч и без лазури,
Как над пустынею, нависли небеса…
Спокойно все во мне и безмятежно,
И радостно видела ты,
Как я побежала, резвяся,
За бабочкой пестрой в кусты…
Пора наступила иная,
И боль загорелася вновь…
Боюсь я признаться, родная,
Что жалит мне сердце любовь!
Но тем же и этой порою
Ты можешь меня исцелить:
Могильной холодной землею
Навеки мне сердце покрыть.
Для того чтобы не возникла эта сердечная драма, для того чтобы сердца не пришлось лечить могилой, лучше пусть девушка останется Миньоной, пусть длится ее утро и дольше не настанет ее полдень:
О, постой же на этом мгновеньи…
Не люби, не цвети и не зрей!
Красота – не только в женщине, но и в искусстве. Великая традиция Фидия и Апеллеса живет в мире, который не довольствуется красотою одной природы, но и воспроизводит ее в человеческом вдохновенном творчестве. При этом, однако, отношение Щербины к искусству – какое-то двойственное, и это, может быть, связано с тем, что он вообще не имеет цельного мировоззрения и в поэзии его отсутствует даже какая-нибудь глубокая и оттого примечательная односторонность. Именно он ставит искусство, т. е. в известном смысле цитату, нечто вторичное и воспроизведенное, так высоко, что перед ним бледнеет непосредственная красота мира. Весна, покидая землю, оставляет свои краски поэту, и она уверена, что благодаря ему люди даже и не заметят ее отсутствия. Изменят женщины, поблекнут их цветущие лица, все разрушится, все обманет, —
Только в искусстве таится прямое блаженство,
Только в искусстве – обещанный людям Элизий.
Но с другой стороны, Щербина исповедует более скептическую мысль, что «искусство, уж это – несчастие наше, о дети!». Искусство возникает уже тогда, когда в человеке зарождаются «потребы бесконечного духа», неудовлетворенные и неудовлетворимые стремления. Искусство – порыв к идеалу, и оно лишь оттеняет всю печаль и бедность реального. Оно – результат лишений; это – бедность и горе, слабый отзвук потерянного рая. Какая грусть и скудость в поэзии! И потому девочки, которые просят почитать им стихи, на самом деле в последних не нуждаются: они сами – воплощенные поэтические создания, живое созвучие.
Служитель искусства, поэт, наместник весны, имеет еще и другую – социальную важность, хотя сам Щербина уклоняется от песен, чуждых вечности:
То моя отвергла лира,
Что проходит с каждым днем.
Но и здесь он не остается последовательным, верным себе: осуждая русскую «безобщественность», он считает поэта совестью века, называет его «человеком передовым» и благословляет его на высокие подвиги духа:
Да звучит твой стих обронный,
Правды Божией набат,
В пробужденье мысли сонной,
В кару жизни беззаконной,
На погибель всех неправд!
Вообще, несмотря на указанное желание откликаться только на вечные темы, Щербине не чужды ни сатирические выходки против людей и нравов, ни более серьезные гражданские мотивы, и в потаенных складках его стихов, искаженное цензурой, все-таки живет презрение к злой традиции, к жизни беззаконной, к неправедной современности. Он помнит Рылеева и тот равелин,
Где, окованный цепями,
Гаснул русский гражданин.
То, что узника сжимают черные стены темницы, а за этими стенами ликует природа и поют малиновки; то, что узнику небо, и горы, и пашни виднеются из тюремного оконца, – это представляет собою не только насилие над человеком, но и оскорбление природы во всем ее целом; ибо самая сущность ее – свобода, и если не свободно хотя бы малейшее ее создание, то это уже вопиет к небу, вопиет к ней – тем более когда свободу отнимают у ее лучшего творения, у ее любимого сына. Именно потому, что кругом – рабство и тьма, одного солнца мало Щербине; он хочет зажечь другое, и это другое солнце будет свобода. Когда-нибудь «два солнца засветят с небес» – это будет победа Прометея над Зевсом, человека над Богом.
Такую победу поэт считает необходимой: надо довершить дело Прометея. Личного Бога Щербина не признает. Но это не столько атеизм, сколько пантеизм, который и составляет пафос его поэзии. Как характерно выражается наш эллин, он чувствует «сострастье» ко всей природе и узнает себя в ней и ее в себе: «тайные струны природы в струнах души отзовутся». Мир для него – одно существо, и есть мировая душа, как единство отдельных дыханий. Все кругом трепещет и чувствует, и жизнь – великое Одно. И потому, когда поэт, слыша в себе и кругом себя «звучащий рой всеструнных ощущений», бродит по лесу, он, как носитель вечности, как воплощенное бессмертие и кладезь жизни, чует вокруг себя не только все теперь живущие твари земной планеты, но и все отжившие; для него раскрываются вселенские тайны, и тогда он сознает, что на земле обитает не одно видимое население, но и то, чего он не видит, не слышит, не осязает и что воспринимает «смутным души ощущением». И поэтому он с «жадным сострастьем родственно внемлет мелодии листьев»; и утром, когда мир так свеж, он идет по горам и долинам и чувствует себя частью целого, единой каплей в океане живого. И он боится, как бы своей стопой не раздавить чужой жизни:
И тихой стопою
Я буду на горы взбираться:
Боюсь раздавить я ногою
Червя, что ползет под травою
Сияньем тепла наслаждаться;
Исполнен вниманьем
Для всякой летающей крошки,
И, груди сдержав колыханье,
В себя не втяну я дыханьем
В лучах затерявшейся мошки.
В мировом океане живого не все, однако, живет одновременно, и там, где такой избыток жизни, роскошествует и смерть. Вот кузнечики завидуют долговечности сосен и елей, которые никогда, никогда не скидают своей зеленой одежды; соловей славит жизнь, но для него она мимолетна: он с розой рождается и с быстро вянущей розой умирает, и он завидует людям, которые могут в течение своего века прослушать многие песни многих соловьев; но и человек жалуется, что седеют его волосы и замирает его сердце, когда-то полное трепета и страсти. Все умирает; только бессмертно самое вместилище жизни, только не иссякает самый источник ее – неугасимое солнце; не знает кончины мир как целое, мир, во веки веков исполненный «страстных, вакхических стремлений» и никогда их не утоляющий:
Ты только счастлив своею бессменной
И несходящей весною,
Ты только вечен, румянец вселенной,
В небе горящий звездою.
Оттого и обидно умирать, так горько не быть – «горе не жившим и горе отжившим!». И с ужасом чувствует каждое я свое одиночество и быстротечность.
Чувствую, силы мои,
Юные силы слабеют;
Слышу – холодную руку
Смерть положила на сердце,
Страстное сердце мое…
Что же, разлитая всюду,
Царствует жизнь предо мною,
Все проникая собой?
Что же нигде я в природе
Образа смерти не вижу?
Я оглушен, ослеплен дифирамбом
Вечно стремящейся жизни,
Вихрем ее увлекаем,
И отстаю я от хода людей
В этом вакхическом беге, средь кликов,
Плясок и песен…
В самом деле: есть в мире полноводный родник живой воды, есть в мире бесконечная возможность жизни – и тем не менее каждое индивидуальное существо обречено умереть. Какая трагедия, какая насмешка! Отдавать последнее трепетание своего тела, когда кругом трепещет любовь; задыхаться, когда около меня все дышит, когда окрест меня в беспредельных пространствах такое буйство жизни! Умирать при звуках мирового дифирамба, под ликование опьяненного и опьяняющего космического Вакха; уходить, когда все приходит, когда ласкает весна, с юга лазурного веет зноем и легкой прохладой, и глазами, темнеющими от наклонившейся смерти, видеть, как земля, одетая в зеленое, пирует свой брачный пир и не замечает наших похорон или отпускает нас без жалости и с насмешкой, – таков удел всего отдельного. «Много есть жизни в природе», и отдельное мечтает, говорит: «Жизнь я займу у природы»; но природа, такая богатая, такая неисчерпаемо-изобильная, не дает взаймы больше того, что она отмерила, и не делится с нами избытком своей жизни.
Именно оттого в душе человека, в душе поэта, и воцаряется в конце концов мертвенная тишина.
Я наложил печать глубокого молчанья
На сердце страстное, на громкие уста;
Мной жажда вечная горящего желанья
Отчаяньем холодным залита.
На высоте одного только сочувствия живому не останешься, и сострастие фатально уступает свое место бесстрастию. Вот мир рисовался Щербине как сладострастный гинекей, и всю природу оживлял он как единое божество, и говорило ему искусство, говорило всеми своими формами, и всеми своими красками, и всеми своими звуками, – но все это не спасло его от внутренней беззвучности, и в заключении его поэтической книги мы читаем про эту безотрадную тишь:
В моей душе давно минули бури;
Уж мне чужда теперь их мрачная краса
И надо мной без туч и без лазури,
Как над пустынею, нависли небеса…
Спокойно все во мне и безмятежно,
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0