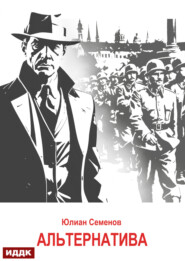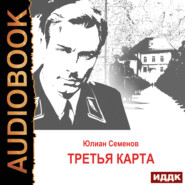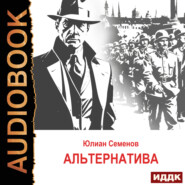По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В тот же день МЧК забрала Белова к себе. Находился он в состоянии прострации, вопросы понимал плохо. Вызванный доктор констатировал сильный нервный шок и дал задержанному успокаивающее лекарство, предписав на допросы его в течение ближайших пяти дней не водить.
Председатель МЧК Мессинг наложил резолюцию: «Нач. тюрьмы. Просьба выполнить предписания врача».
Все поиски Кузьмы Туманова ни к чему не приводили: он исчез, как в воду канул. Оперативная группа МЧК выезжала в деревню Аверкино, где жил отец Белова – Сергей Мокеевич. Раньше он имел три трактира, но все они были конфискованы новой властью в девятнадцатом году. Обыск в доме старика Белова ничего не дал.
Через неделю доктор увидел в заключенном резкую перемену. Тот жадно заглядывал в его глаза и шепотом спрашивал:
– Доктор, а если я чистосердечно – не постреляют?
– Я, голубчик, врач и тонкостей этих, право, не знаю… Нуте-ка, ножку на ножку…
– Да, господи, при чем здесь ножка? Я на следующую ночь, как вы уехали, проснулся – весь в поту. Все глаза боялся открыть – думал, вот бы сон это был, вот бы сон… Лежал так, лежал, а потом один глаз открыл – а тут потолок серый и лампочка в решетке. И так я плакал, доктор, всю ночь плакал. А и плакать сладостно: сколько мне еще раз в жизни плакать? И боль чувствовать в руке, словно током пронзило – отлежал на нарах, – все равно приятно… И в парашу пописать – тоже сладостно так, нежно…
– А раньше о чем думали? – спросил доктор. – Когда начинали все это?
– Вы, пьяный, о чем думаете?
– Я уж, милейший, забыл, когда пьяным был…
– А я пьяный – дурной. За девицу черт знает что могу натворить. Меня, когда пьян, кураж разбирает. Наутро совещусь в зеркало смотреть – плюнул бы в рожу-то, а хмельной сам себе так нравлюсь, сильный я тогда, весь в презрении, а девицам это очень загадочно.
– Вы как в смысле секса?
– Секс – это половой акт?
– Почти, – доктор не смог сдержать улыбки.
– Могу, только если пьяный. Когда трезвый, я с девицами цепенею и слова не могу сказать, не то что секс.
– В роду у вас больных падучей не было?
– Не псих я, доктор, не псих… Я все отчетливо понимаю, что вокруг происходит, где я сижу и что может быть…
Доктор выписал новую порцию успокаивающих средств, хотя в беседе с начальником тюрьмы высказал предположение, что арестованный вполне вменяем.
Той же ночью Белов написал письмо Дзержинскому с просьбой вызвать его на допрос. Когда ему в допросе отказали, он объявил голодовку. От молодого парня этого не ожидали. В тюрьму приехал председатель МЧК Мессинг[6 - Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.].
– Какие у вас претензии? – спросил он Белова. – Почему голодовка?
– Потому что меня не допрашивают.
– Вы не в том состоянии, чтобы вас допрашивать.
– Мне каждый день в неведении – как смерть… Я на себя руки наложу!
– В отношении наложить на себя руки – мы этого постараемся не допустить. – Мессинг полуобернулся к начальнику тюрьмы и попросил: – Если будет замечен в подобного рода фокусах, посадите в карцер.
– Ясно, товарищ Мессинг.
– Что еще имеете заявить, Белов?
– А вы мне что имеете заявить?
– Не паясничайте!
– Я не паясничаю. Каждый человек имеет свою манеру обращения… Я хочу знать, что меня ждет, если я принесу покаяние?
– Чистосердечное покаяние приносят, когда человек без этого не может, если он себя хочет очистить… А если он торгуется – «вы мне за покаяние булку», – тут у нас разговора не будет…
– Я не булку прошу, а жизнь…
– Пока ставите условия – разговора у нас не получится. И с голодовкой – прекратите, несерьезно это. Потерпите дня два, а потом заскулите…
– Почему вы так жестоко со мной говорите?
– Скажите спасибо, что я с вами говорю, Белов. Мне очень хочется вас расстрелять – прямо здесь, не сходя с места… Ладно, ладно! Москва слезам не верит!.. На те драгоценности, которые у вас отобрали, можно завод накормить!
– Но мне же двадцать лет! Двадцать всего! – закричал Белов и начал хрустко ломать пальцы. – Я жить хочу! Мне надобно жить – я ведь молодой, глупый!
– Свою голову надо иметь в двадцать лет… Мне – двадцать шесть, кстати говоря. Хотите – напишите все подробно на мое имя: и про то, как убили Кузьму Туманова, и про то, где оборудовали тайник, – неторопливо говорил Мессинг, замечая, как расширяются зрачки Белова и как он медленно подается назад, – и чем подробнее напишете – тем будет лучше…
– Для меня?
– Больше, конечно, для нас, – усмехнулся Мессинг, – но, глядишь, трибунал учтет ваши глупые годы, глядишь – докажете, что не вы похищали, а другие, а вы только были передаточным звеном…
«Молчи, кругом молчи, – вспомнил Белов отчетливо и до жути явно лицо Ивана Ивановича во время их последней встречи. – Как бы ни было тебе страшно и плохо – молчи. Это я не пугаю тебя, это я тебе свою тайну открываю. Ты гляди: амнистии каждый год – на Первомай и в Октябрьские. Раз. Потом – не долги они, их голод сломит. Два. Мы своих в обиду не даем, у нас тоже руки длинные, мы из таких передряг выходили – что ты… это третье будет. И помни, время всегда на того работает, кто смел и тверд. Кто раскис, того время сразу в расход списывает».
– Ничего я писать не буду, – сказал Белов наконец. – Можете и не допрашивать: под лежачий камень вода не течет. Не хотели по-хорошему – и не надо.
– От мерзавец, – удивленно протянул Мессинг, – ну, каков же мерзавец, а? Ладно, иди в камеру. И запомни, больше я с тобой говорить не стану – как ни проси. Это мое последнее слово, гаденыш…
Об аресте Белова Мессинг поставил в известность замнаркомфина Альского[7 - Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.], попросив его об этом никому больше не сообщать.
– Я бы даже порекомендовал вам сообщить в Гохран, что Белов откомандирован в Тобольск.
– Такие фокусы мне не очень-то нравятся, – ответил Альский, – но если вам это кажется целесообразным, я пойду навстречу – в виде исключения.
– Товарищ Альский, исключение здесь ни при чем, просто Белов похитил драгоценностей на миллион.
– Сколько?! – ахнул Альский. – Не может быть!
– Знаете, у меня от правды голова трещит, так что выдумывать сил нет, да и профессия мне этого не позволяет.
– Кто оценивал?
– Мы возили цацки в Петроград, чтобы не подключать к делу ваших гохранщиков.
– Из-за одного негодяя ставите под сомнение коллектив?
Председатель МЧК Мессинг наложил резолюцию: «Нач. тюрьмы. Просьба выполнить предписания врача».
Все поиски Кузьмы Туманова ни к чему не приводили: он исчез, как в воду канул. Оперативная группа МЧК выезжала в деревню Аверкино, где жил отец Белова – Сергей Мокеевич. Раньше он имел три трактира, но все они были конфискованы новой властью в девятнадцатом году. Обыск в доме старика Белова ничего не дал.
Через неделю доктор увидел в заключенном резкую перемену. Тот жадно заглядывал в его глаза и шепотом спрашивал:
– Доктор, а если я чистосердечно – не постреляют?
– Я, голубчик, врач и тонкостей этих, право, не знаю… Нуте-ка, ножку на ножку…
– Да, господи, при чем здесь ножка? Я на следующую ночь, как вы уехали, проснулся – весь в поту. Все глаза боялся открыть – думал, вот бы сон это был, вот бы сон… Лежал так, лежал, а потом один глаз открыл – а тут потолок серый и лампочка в решетке. И так я плакал, доктор, всю ночь плакал. А и плакать сладостно: сколько мне еще раз в жизни плакать? И боль чувствовать в руке, словно током пронзило – отлежал на нарах, – все равно приятно… И в парашу пописать – тоже сладостно так, нежно…
– А раньше о чем думали? – спросил доктор. – Когда начинали все это?
– Вы, пьяный, о чем думаете?
– Я уж, милейший, забыл, когда пьяным был…
– А я пьяный – дурной. За девицу черт знает что могу натворить. Меня, когда пьян, кураж разбирает. Наутро совещусь в зеркало смотреть – плюнул бы в рожу-то, а хмельной сам себе так нравлюсь, сильный я тогда, весь в презрении, а девицам это очень загадочно.
– Вы как в смысле секса?
– Секс – это половой акт?
– Почти, – доктор не смог сдержать улыбки.
– Могу, только если пьяный. Когда трезвый, я с девицами цепенею и слова не могу сказать, не то что секс.
– В роду у вас больных падучей не было?
– Не псих я, доктор, не псих… Я все отчетливо понимаю, что вокруг происходит, где я сижу и что может быть…
Доктор выписал новую порцию успокаивающих средств, хотя в беседе с начальником тюрьмы высказал предположение, что арестованный вполне вменяем.
Той же ночью Белов написал письмо Дзержинскому с просьбой вызвать его на допрос. Когда ему в допросе отказали, он объявил голодовку. От молодого парня этого не ожидали. В тюрьму приехал председатель МЧК Мессинг[6 - Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.].
– Какие у вас претензии? – спросил он Белова. – Почему голодовка?
– Потому что меня не допрашивают.
– Вы не в том состоянии, чтобы вас допрашивать.
– Мне каждый день в неведении – как смерть… Я на себя руки наложу!
– В отношении наложить на себя руки – мы этого постараемся не допустить. – Мессинг полуобернулся к начальнику тюрьмы и попросил: – Если будет замечен в подобного рода фокусах, посадите в карцер.
– Ясно, товарищ Мессинг.
– Что еще имеете заявить, Белов?
– А вы мне что имеете заявить?
– Не паясничайте!
– Я не паясничаю. Каждый человек имеет свою манеру обращения… Я хочу знать, что меня ждет, если я принесу покаяние?
– Чистосердечное покаяние приносят, когда человек без этого не может, если он себя хочет очистить… А если он торгуется – «вы мне за покаяние булку», – тут у нас разговора не будет…
– Я не булку прошу, а жизнь…
– Пока ставите условия – разговора у нас не получится. И с голодовкой – прекратите, несерьезно это. Потерпите дня два, а потом заскулите…
– Почему вы так жестоко со мной говорите?
– Скажите спасибо, что я с вами говорю, Белов. Мне очень хочется вас расстрелять – прямо здесь, не сходя с места… Ладно, ладно! Москва слезам не верит!.. На те драгоценности, которые у вас отобрали, можно завод накормить!
– Но мне же двадцать лет! Двадцать всего! – закричал Белов и начал хрустко ломать пальцы. – Я жить хочу! Мне надобно жить – я ведь молодой, глупый!
– Свою голову надо иметь в двадцать лет… Мне – двадцать шесть, кстати говоря. Хотите – напишите все подробно на мое имя: и про то, как убили Кузьму Туманова, и про то, где оборудовали тайник, – неторопливо говорил Мессинг, замечая, как расширяются зрачки Белова и как он медленно подается назад, – и чем подробнее напишете – тем будет лучше…
– Для меня?
– Больше, конечно, для нас, – усмехнулся Мессинг, – но, глядишь, трибунал учтет ваши глупые годы, глядишь – докажете, что не вы похищали, а другие, а вы только были передаточным звеном…
«Молчи, кругом молчи, – вспомнил Белов отчетливо и до жути явно лицо Ивана Ивановича во время их последней встречи. – Как бы ни было тебе страшно и плохо – молчи. Это я не пугаю тебя, это я тебе свою тайну открываю. Ты гляди: амнистии каждый год – на Первомай и в Октябрьские. Раз. Потом – не долги они, их голод сломит. Два. Мы своих в обиду не даем, у нас тоже руки длинные, мы из таких передряг выходили – что ты… это третье будет. И помни, время всегда на того работает, кто смел и тверд. Кто раскис, того время сразу в расход списывает».
– Ничего я писать не буду, – сказал Белов наконец. – Можете и не допрашивать: под лежачий камень вода не течет. Не хотели по-хорошему – и не надо.
– От мерзавец, – удивленно протянул Мессинг, – ну, каков же мерзавец, а? Ладно, иди в камеру. И запомни, больше я с тобой говорить не стану – как ни проси. Это мое последнее слово, гаденыш…
Об аресте Белова Мессинг поставил в известность замнаркомфина Альского[7 - Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.], попросив его об этом никому больше не сообщать.
– Я бы даже порекомендовал вам сообщить в Гохран, что Белов откомандирован в Тобольск.
– Такие фокусы мне не очень-то нравятся, – ответил Альский, – но если вам это кажется целесообразным, я пойду навстречу – в виде исключения.
– Товарищ Альский, исключение здесь ни при чем, просто Белов похитил драгоценностей на миллион.
– Сколько?! – ахнул Альский. – Не может быть!
– Знаете, у меня от правды голова трещит, так что выдумывать сил нет, да и профессия мне этого не позволяет.
– Кто оценивал?
– Мы возили цацки в Петроград, чтобы не подключать к делу ваших гохранщиков.
– Из-за одного негодяя ставите под сомнение коллектив?