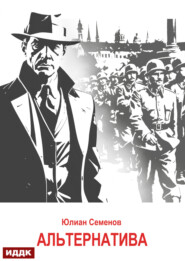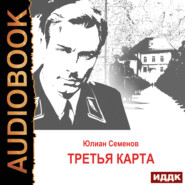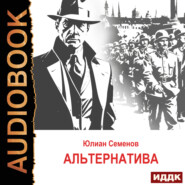По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семнадцать мгновений весны (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Черт с ним, – подумал он, чувствуя, как кровь разом прилила к лицу, – попытка – не пытка».
Муха поднялся и пошел к тому месту, где он оставил Аню. Он шел, прижимая к себе букет. Он пришел туда как раз в ту минуту, когда девушка выходила из воды. Она подошла к платью, лежавшему на мелком, желтом песке, и в это время из кустов вышел Муха. Он шагнул к девушке, бросил под ноги букет и обнял Аню. Он обнял ее сильно и грубо – одной рукой притиснул к себе, а второй сжал грудь, повалив на траву.
– Я один, один, один, – шептал он, прижимая ее к земле, – я все время один… Ну, не мучай, пусти… Пусти. Не мучай.
– Не надо, Андрюшенька, – тихо, спокойно ответила Аня, – я понимаю, как тебе трудно, только не надо начерно жить.
Если б она закричала, или стала вырываться, или начала б царапать его лицо, он бы ослеп и не совладал с собой. Но этот ее тихий, спокойный голос вошел в него с какой-то тягучей, отчаянной, забытой болью. Он шумно выдохнул и повернулся на спину.
– Одевайся, – сказал он, – я отвернусь.
Когда Аня, одевшись, села подле него, Муха открыл глаза, собрал букет, протянул девушке и сказал:
– Держи. Подарок. Зла только не держи.
И – хватил ртом воздуха, будто из воды вынырнул.
Поздно вечером, когда стемнело, он сказал Ане, что едет в Краков к своим людям за лошадьми или, что еще лучше, за машиной. Вернуться обещал завтра утром. Вообще-то он был уверен, что Берг заставит его возвратиться немедленно и даже, как в прошлый раз, подвезет к Рыбны на своем «хорьхе», но Муха решил найти себе на ночь проститутку – заглушить ею, этой незнакомой, доступной женщиной то видение, которое то и дело возникало перед глазами: острый, неожиданный высверк озера, солнце, рассыпавшиеся по песку цветы и девушка, красивей которой он в своей жизни не видел.
– Я тебя запру, – сказал Муха на прощание, – так будет спокойней. И ставни закрою: в пустые дома они не суются, они туда суются, где печи топят.
В час ночи кто-то осторожно поскребся в ставню. Аня замерла в кровати и с ужасом подумала, что все ее оружие спрятал Муха. Ставень, скрипнув, отворился. Через стекло Аня увидела седого мужчину. Он поманил Аню пальцем, он видел ее, потому что на кровать падал мертвый, медленный, серебристый лунный свет.
Аня поднялась и, набросив на плечи кофту, подошла к окну.
– Девушка, – сказал Седой, – меня послал Андрий.
Человек говорил с сильным польским акцентом.
– Какой Андрий?
– Откройте окно, не бойтесь, если бы я был немец, я бы шел через дверь.
Аня открыла окно.
– Дочка, – сказал человек, – Андрий велел мне срочно привести тебя на запасную квартиру. Тут стало опасно, пошли.
Аня быстро оделась и перелезла через подоконник.
Всего хорошего!
Теперь, после бесконечных, изматывающих ночных допросов, пробираясь сквозь толпу на рынке, Вихрь – спиной, ушами, затылком – чувствовал, что слепец уже не так напряжен и не сжимает в кармане рукоять «парабеллума». Вихрь чувствовал и по темпу проходивших «дружеских собеседований», и по вопросам, уже не таким прострельным и стремительно менявшимся, что гестаповцы склонны верить ему после их экзамена с «вельветовой курткой».
Поэтому сейчас, продираясь сквозь толпу, Вихрь чувствовал, что на первом этапе возможного побега во время облавы ему будет легче, чем позавчера, потому что непосредственная его охрана уже пообвыкла и успокоилась после первого похода на рынок.
Вихрь ждал облавы. Он понимал, что если и сегодня облавы не будет и ему не удастся уйти, то он может запутаться в той осторожной полуправде, которую он показывал на допросах. Он пока что скользил по вопросам, которые ему ставили, но скользил так, чтобы вызвать «эффект слаломиста», – стремительно, шумно и много снежной пыли. Однако эта снежная пыль вот-вот уляжется, и гестаповцы посидят с карандашом над предыдущими допросами и пойдут по деталям. Их будет интересовать все относящееся к нашей армии. Вихрь считал гестапо серьезнейшей контрразведывательной организацией; наивно полагать, что гестапо было в неведении о системе нашей фронтовой разведки, об именах, основных спектрах интересов и направленностей. Вопрос заключался в том, что? они знали, какими фактами – именами и цифрами – могли, незаметно для самого Вихря, уличить его во лжи.
Пока что Вихрь расплачивался именами погибших товарищей, историей своего Днепропетровского подполья, секретами своей – теперь уже устаревшей – разведработы в Кривом Роге, в организации Тодта. Он шел осторожно, на ощупь, но он, с каждым днем все явственнее, видел конец своего пути, когда кончается игра и начинается предательство.
Вихрь брел по рынку, присматриваясь к людям, которые его окружали, и думал, что сейчас промедление становится подобно смерти. Поэтому он с особым вниманием вглядывался в лица людей, окружавших его, и старался представить, как они будут себя вести, если он ринется сквозь толпу – напропалую, не дожидаясь облавы.
«Либо все попадают, когда начнется стрельба, либо кинутся в разные стороны, и я окажусь в простреливаемом коридоре. Впрочем, слепой начнет палить вслед без разбора, да и длинный, который впереди, – тоже. Хотя с длинным легче: пока он обернется, я уйду далеко, а если пригнусь, они меня не увидят в толпе, – думал Вихрь, – но все равно станут палить, людей перегубят – страх…»
Высоко в небе запищал комарик. Вихрь внутренне замер, продолжая размеренно и валко идти вперед. Он шел как шел, только начал ступать на носки, будто в лесу на охоте в ожидании дичи, когда ее нет, но вот-вот где-то сейчас, здесь, из-под ног, высверкнет тетеревом, двумя, тремя тетеревами, выводком, большим тетеревиным выводком, резанет воздух дуплетом, грохнется черно-бело-рыжий комок на землю, заскулит пес, потянет пороховой гарью, замрет сердце счастьем.
«Тише, вы! – чуть не кричал Вихрь на людей, которые шли, громко шаркая голодными, тонкими, уставшими ногами по серым плитам площади. – Тише, вы! Слышите, самолеты!»
Потом он увидел в небе черные точки: армада самолетов шла с запада на восток – бомбить наших. Вихрь вздохнул, опустил глаза и увидел, что идущий впереди гестаповец, поднявшись на мыски, заглядывал через головы шумливых старух. Он увидел мальчишку, который ползал на коленях, собирая огрызки яблок и окурки, валявшиеся возле скамеек, где сидели люди, ожидавшие поезда. Мальчишка был черненький, длинноносый, с проволочными гладкими волосами.
«Цыганенок, – понял Вихрь, – они для них вроде евреев. Как натасканный пес – не может пройти мимо цыганенка. Что сейчас в нем творится, в этом длинном? Точно, как натасканная собака. Тварь этакая».
Длинный гестаповец свернул, прошел сквозь плотную шеренгу торговцев, толкнул какого-то старичка в широкополой черной шляпе, отвел локтем немецкого солдата и больно толкнул цыганенка в бок мыском сапога – будто бы невзначай. Цыганенок вскинул свое громадноглазое лицо, увидел длинного и, словно нутром поняв опасность, стал отползать на карачках. Потом поднялся и юркнул в тихую, жаркую, настороженную толпу. Людское море голов зашевелилось там, где пробегал мальчишка.
«Вот! – резануло Вихря. – Вот оно!»
– А-а-а! – заорал он, что есть силы ударив слепца по очкам, и ринулся в сторону, противоположную цыганенку, сшибая руками и ногами людей с узлами и чемоданами. Рынок зашумел; пронзительно затрещали свистки полиции; кто-то тихо, испуганно закричал у него за спиной – началась паника, заржали кони, хлестнул выстрел, другой…
Вихрь бежал согнувшись, выставив вперед голову, сдирая с себя на бегу синий пиджак – первую примету. Он бросил пиджак под ноги, увидел – стремительным кинокадром, – как к пиджаку потянулись чьи-то руки, на пальцы в тот же миг обрушилась здоровенная ножища, но крика уже не было слышно, потому что кричало и вопило все вокруг.
Вихрь глянул вправо – там разворачивался грузовик с крытым зеленым кузовом: из него черными комьями вываливались полицейские.
Мелькание в глазах вдруг сменилось замедленным видением – как в предсмертный, последний час. «Парикмахерская» – проплыли перед глазами буквы чуть подальше парадного входа гостиницы «Варшавской».
Каким-то последним, холодным, отчаянным разумом Вихрь толкнул дверь; остро дзинькнул звонок. Парикмахер, побледнев, шагнул навстречу.
Мгновение Вихрь стоял на пороге, а потом сказал:
– Я бежал из гестапо. Это ищут меня.
У Палека
Седой привел Аню в старую баню. Здесь пахло дубовыми бочками, пенькой и каким-то особым, далеким, но знакомым Ане рыбацким запахом: то ли дегтем, то ли прошлогодней вяленой рыбой. Этот запах, знакомый Ане по тайге, вдруг успокоил ее: так бывало в зимовьях, где отец останавливался, если шел белковать на сезон.
– Сядь, девка, – сказал Седой и, достав большой клетчатый платок, вытер лицо. – Сядь, – повторил он, засветив огарок тоненькой церковной свечки.
Аня огляделась и вздрогнула: у стены сидели женщина, парень в крагах и девушка, которая ехала следом за ней с Мухой на велосипеде, когда они шли в лес.
– Сядь, – повторил Седой еще раз, – сядь и отдохни. Здесь твои друзья, если ты – та девка, которая должна была прилететь с рацией.
– О чем вы говорите? – пожала плечами Аня. – Вы меня путаете с кем-то.
– Ладно, – сказал Седой, – хорошо. Ты этих людей не знаешь, они знают тебя.
– Где Андрий?
– Твой Андрий у немцев.
Аня поднялась и прижала руки к груди: