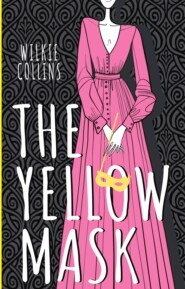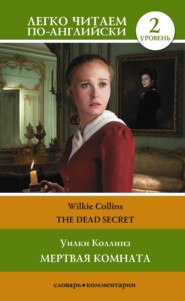По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Женщина в белом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я выяснил, сэр, – ответил слуга, – что обе женщины взяли билеты на здешней станции до Карлайла.
– Вы, разумеется, отправились в Карлайл, узнав об этом?
– Да, сэр, но с сожалением должен сообщить, что более мне ничего обнаружить не удалось.
– Вы спрашивали о них в Карлайле, на станции?
– Да, сэр.
– И на постоялых дворах?
– Да, сэр.
– И вы оставили написанное мной заявление в полицейском участке?
– Оставил, сэр.
– Ну что ж, друг мой, вы сделали все, что могли, и я сделал все, что мог; на этом пока и остановимся. Мы использовали все средства, мистер Хартрайт, – продолжил старый джентльмен, когда слуга удалился. – На сегодня эти женщины перехитрили нас, и теперь нам остается только ждать приезда сэра Персиваля Глайда. Наполните-ка ваш бокал. Славный портвейн! Хорошее, крепкое, старое вино. Хотя в моем погребе есть и получше.
Мы вернулись в гостиную, комнату, где проходили счастливейшие вечера в моей жизни и которую сегодня я видел в последний раз. Гостиная выглядела по-другому, с тех пор как похолодало и дни стали короче. Стеклянная дверь на террасу была закрыта и завешена плотными портьерами. Вместо мягкого света сумерек, при котором мы обычно проводили здесь время, яркий свет ламп слепил мои глаза. Все изменилось… и внутри, и снаружи все изменилось.
Мисс Холкомб и мистер Гилмор сели за карточный стол, миссис Вэзи – в свое любимое кресло. В их поведении не было никакой принужденности, отчего я лишь сильнее ощутил свою скованность. Я заметил, что мисс Фэрли медлила возле пюпитра. В прежнее время я бы немедленно занял место подле нее. Теперь же я стоял в нерешительности: я не знал, куда мне идти и чем себя занять. Мисс Фэрли бросила на меня быстрый взгляд, взяла ноты с пюпитра и решительно подошла ко мне.
– Не сыграть ли мне какую-нибудь из тех мелодий Моцарта, которые вам так нравились? – спросила она взволнованно, раскрыв ноты и не отрывая от них глаз, пока говорила.
Прежде чем я успел поблагодарить ее, она торопливо вернулась к фортепиано. Стул подле нее, на котором я, бывало, располагался, сейчас пустовал. Она взяла несколько аккордов, потом взглянула на меня и затем снова на ноты.
– Не присядете ли вы на ваше место? – спросила она отрывисто тихим голосом.
– В самый последний раз, – ответил я.
Она ничего не сказала; все ее внимание было приковано к нотам, которые она знала наизусть; эту музыку она прежде играла много раз и никогда не пользовалась нотами. Я понял, что она слышит меня, что чувствует мое близкое присутствие, ибо с ее щек исчез румянец, а лицо сильно побледнело.
– Мне очень жаль, что вы уезжаете, – проговорила она почти шепотом, все пристальнее вглядываясь в ноты и перебирая клавиши со странной лихорадочной энергией, которой я никогда не замечал в ней прежде.
– Я буду помнить эти ласковые слова, мисс Фэрли, еще очень долго после того, как наступит и канет в Лету завтрашний день.
Она еще больше побледнела и почти совсем отвернулась от меня.
– Не говорите о завтрашнем дне, – сказала она. – Пусть музыка говорит сегодня вечером языком более веселым, чем наш.
Губы ее дрожали. Из них вырвался слабый вздох, который она тщетно пыталась подавить. Пальцы ее затрепетали на клавишах – прозвучала фальшивая нота, она хотела поправиться и с гневом опустила руки на колени. Мисс Холкомб и мистер Гилмор с удивлением оторвали взгляды от карточного стола, за которым сидели. Даже миссис Вэзи, дремавшая в своем кресле, проснулась, когда музыка вдруг резко оборвалась, и осведомилась, что случилось.
– Вы играете в вист, мистер Хартрайт? – спросила мисс Холкомб, значительно посмотрев на меня.
Я знал, что она хочет сказать, знал, что она права, и потому в тот же миг встал и подошел к карточному столу. Когда я отошел от фортепиано, мисс Фэрли перевернула нотную страницу и снова коснулась клавиш, уже более уверенной рукой.
– Я сыграю эту пьесу, – сказала она, страстно ударяя по клавишам. – Я сыграю ее в последний раз!
– Подите сюда, миссис Вэзи, – сказала мисс Холкомб, – нам с мистером Гилмором надоело играть в экарте, будьте партнером мистера Хартрайта в висте.
Старый адвокат насмешливо улыбнулся. У него была лучшая рука, он только что открыл короля. Так что, по всей вероятности, внезапное желание мисс Холкомб переменить игру он приписывал ее неумению проигрывать.
В продолжение всего вечера мисс Фэрли не проронила больше ни слова, не бросила в мою сторону ни единого взгляда. Она оставалась за фортепиано, я – за карточным столом. Она играла непрерывно, словно в музыке искала спасения от самой себя. Ее пальцы то касались клавиш с томительной любовью, с мягкой, горькой, замирающей нежностью, невыразимо прекрасной и грустной для слуха, то переставали ее слушаться или бежали по инструменту механически, как будто их труд был слишком для них тяжел. И все же, какие бы чувства они ни сообщали музыке, их решимость продолжать игру не иссякала. Мисс Фэрли встала из-за фортепиано, только когда мы все встали, чтобы пожелать друг другу доброй ночи.
Миссис Вэзи ближе всех стояла к двери и первая пожала мне руку.
– Я больше не увижусь с вами, мистер Хартрайт, – сказала старушка. – Я искренне сожалею, что вы уезжаете. Вы были очень добры и внимательны, а старые дамы, такие как я, чувствуют доброту и внимание. Желаю вам счастья, сэр, и благополучного пути.
Следующим подошел мистер Гилмор:
– Надеюсь, нам представится еще случай познакомиться поближе, мистер Хартрайт. Вы вполне уверены, что это небольшое дельце находится в надежных руках? Да, да, разумеется. Господи, как холодно! Не стану вас больше задерживать. Bon voyage, мой дорогой сэр, bon voyage, как говорят французы.
Настала очередь мисс Холкомб прощаться.
– В половине восьмого завтра утром, – сказала она, а затем добавила шепотом. – Я слышала и видела больше, чем вы думаете. Ваше сегодняшнее поведение сделало меня вашим другом на всю жизнь.
Мисс Фэрли подошла последней. Боясь выдать себя, я не взглянул на нее, когда взял ее руку в свою, думая о завтрашнем дне.
– Я уезжаю рано утром, – сказал я, – прежде чем вы…
– Нет-нет, – перебила она меня торопливо, – не прежде, чем я встану. Я спущусь к завтраку с Мэриан. Я не настолько неблагодарна и забывчива, чтобы не помнить последних трех месяцев…
Голос изменил ей, ее рука нежно пожала мою и тут же выпустила. Она ушла еще до того, как я успел пожелать ей «доброй ночи».
Конец моего рассказа быстро приближается, приближается с той же неизбежностью, с какой наступил рассвет в то последнее мое утро в Лиммеридже.
Когда я сошел к завтраку, еще не было половины восьмого, однако обе сестры уже ждали меня в столовой. В холодной и тускло освещенной комнате, в унылом утреннем безмолвии дома мы трое сели за стол и старались есть, старались говорить. Наши усилия оказались тщетны, и я встал из-за стола, чтобы положить этому конец.
Едва я протянул руку мисс Холкомб, которая была ближе ко мне, мисс Фэрли вдруг отвернулась и поспешно вышла из комнаты.
– Так лучше, – сказала мне мисс Холкомб, когда дверь закрылась, – лучше для вас и для нее.
С минуту я не мог вымолвить ни слова: тяжело было лишиться ее, не попрощавшись, не взглянув на нее в последний раз. Взяв себя в руки, я попытался проститься с мисс Холкомб в подобающих случаю выражениях, однако слова, которые мне хотелось ей высказать, свелись к единственной фразе:
– Заслуживаю ли я, чтобы вы написали мне?
Вот все, что я мог сказать.
– Вы заслуживаете всего, что будет в моих силах сделать для вас, пока мы оба живы. Каков бы ни был конец у этой истории, вы будете о нем знать.
– А если я снова смогу быть вам полезен, через много лет, когда изгладится память о моей самонадеянности и моем безумстве…
Я больше не мог говорить. Голос мой дрожал, а на глаза помимо моей воли выступили слезы.
Мисс Холкомб схватила мои руки и пожала их крепко и уверенно, по-мужски; темные глаза ее сверкнули; щеки вспыхнули; решительное и энергичное лицо просияло и сделалось прекрасным, озарившись чистым внутренним светом ее великодушия и сочувствия.
– Если нам понадобится помощь, я непременно обращусь к вам как к моему другу и ее другу, как к моему и ее брату.
– Вы, разумеется, отправились в Карлайл, узнав об этом?
– Да, сэр, но с сожалением должен сообщить, что более мне ничего обнаружить не удалось.
– Вы спрашивали о них в Карлайле, на станции?
– Да, сэр.
– И на постоялых дворах?
– Да, сэр.
– И вы оставили написанное мной заявление в полицейском участке?
– Оставил, сэр.
– Ну что ж, друг мой, вы сделали все, что могли, и я сделал все, что мог; на этом пока и остановимся. Мы использовали все средства, мистер Хартрайт, – продолжил старый джентльмен, когда слуга удалился. – На сегодня эти женщины перехитрили нас, и теперь нам остается только ждать приезда сэра Персиваля Глайда. Наполните-ка ваш бокал. Славный портвейн! Хорошее, крепкое, старое вино. Хотя в моем погребе есть и получше.
Мы вернулись в гостиную, комнату, где проходили счастливейшие вечера в моей жизни и которую сегодня я видел в последний раз. Гостиная выглядела по-другому, с тех пор как похолодало и дни стали короче. Стеклянная дверь на террасу была закрыта и завешена плотными портьерами. Вместо мягкого света сумерек, при котором мы обычно проводили здесь время, яркий свет ламп слепил мои глаза. Все изменилось… и внутри, и снаружи все изменилось.
Мисс Холкомб и мистер Гилмор сели за карточный стол, миссис Вэзи – в свое любимое кресло. В их поведении не было никакой принужденности, отчего я лишь сильнее ощутил свою скованность. Я заметил, что мисс Фэрли медлила возле пюпитра. В прежнее время я бы немедленно занял место подле нее. Теперь же я стоял в нерешительности: я не знал, куда мне идти и чем себя занять. Мисс Фэрли бросила на меня быстрый взгляд, взяла ноты с пюпитра и решительно подошла ко мне.
– Не сыграть ли мне какую-нибудь из тех мелодий Моцарта, которые вам так нравились? – спросила она взволнованно, раскрыв ноты и не отрывая от них глаз, пока говорила.
Прежде чем я успел поблагодарить ее, она торопливо вернулась к фортепиано. Стул подле нее, на котором я, бывало, располагался, сейчас пустовал. Она взяла несколько аккордов, потом взглянула на меня и затем снова на ноты.
– Не присядете ли вы на ваше место? – спросила она отрывисто тихим голосом.
– В самый последний раз, – ответил я.
Она ничего не сказала; все ее внимание было приковано к нотам, которые она знала наизусть; эту музыку она прежде играла много раз и никогда не пользовалась нотами. Я понял, что она слышит меня, что чувствует мое близкое присутствие, ибо с ее щек исчез румянец, а лицо сильно побледнело.
– Мне очень жаль, что вы уезжаете, – проговорила она почти шепотом, все пристальнее вглядываясь в ноты и перебирая клавиши со странной лихорадочной энергией, которой я никогда не замечал в ней прежде.
– Я буду помнить эти ласковые слова, мисс Фэрли, еще очень долго после того, как наступит и канет в Лету завтрашний день.
Она еще больше побледнела и почти совсем отвернулась от меня.
– Не говорите о завтрашнем дне, – сказала она. – Пусть музыка говорит сегодня вечером языком более веселым, чем наш.
Губы ее дрожали. Из них вырвался слабый вздох, который она тщетно пыталась подавить. Пальцы ее затрепетали на клавишах – прозвучала фальшивая нота, она хотела поправиться и с гневом опустила руки на колени. Мисс Холкомб и мистер Гилмор с удивлением оторвали взгляды от карточного стола, за которым сидели. Даже миссис Вэзи, дремавшая в своем кресле, проснулась, когда музыка вдруг резко оборвалась, и осведомилась, что случилось.
– Вы играете в вист, мистер Хартрайт? – спросила мисс Холкомб, значительно посмотрев на меня.
Я знал, что она хочет сказать, знал, что она права, и потому в тот же миг встал и подошел к карточному столу. Когда я отошел от фортепиано, мисс Фэрли перевернула нотную страницу и снова коснулась клавиш, уже более уверенной рукой.
– Я сыграю эту пьесу, – сказала она, страстно ударяя по клавишам. – Я сыграю ее в последний раз!
– Подите сюда, миссис Вэзи, – сказала мисс Холкомб, – нам с мистером Гилмором надоело играть в экарте, будьте партнером мистера Хартрайта в висте.
Старый адвокат насмешливо улыбнулся. У него была лучшая рука, он только что открыл короля. Так что, по всей вероятности, внезапное желание мисс Холкомб переменить игру он приписывал ее неумению проигрывать.
В продолжение всего вечера мисс Фэрли не проронила больше ни слова, не бросила в мою сторону ни единого взгляда. Она оставалась за фортепиано, я – за карточным столом. Она играла непрерывно, словно в музыке искала спасения от самой себя. Ее пальцы то касались клавиш с томительной любовью, с мягкой, горькой, замирающей нежностью, невыразимо прекрасной и грустной для слуха, то переставали ее слушаться или бежали по инструменту механически, как будто их труд был слишком для них тяжел. И все же, какие бы чувства они ни сообщали музыке, их решимость продолжать игру не иссякала. Мисс Фэрли встала из-за фортепиано, только когда мы все встали, чтобы пожелать друг другу доброй ночи.
Миссис Вэзи ближе всех стояла к двери и первая пожала мне руку.
– Я больше не увижусь с вами, мистер Хартрайт, – сказала старушка. – Я искренне сожалею, что вы уезжаете. Вы были очень добры и внимательны, а старые дамы, такие как я, чувствуют доброту и внимание. Желаю вам счастья, сэр, и благополучного пути.
Следующим подошел мистер Гилмор:
– Надеюсь, нам представится еще случай познакомиться поближе, мистер Хартрайт. Вы вполне уверены, что это небольшое дельце находится в надежных руках? Да, да, разумеется. Господи, как холодно! Не стану вас больше задерживать. Bon voyage, мой дорогой сэр, bon voyage, как говорят французы.
Настала очередь мисс Холкомб прощаться.
– В половине восьмого завтра утром, – сказала она, а затем добавила шепотом. – Я слышала и видела больше, чем вы думаете. Ваше сегодняшнее поведение сделало меня вашим другом на всю жизнь.
Мисс Фэрли подошла последней. Боясь выдать себя, я не взглянул на нее, когда взял ее руку в свою, думая о завтрашнем дне.
– Я уезжаю рано утром, – сказал я, – прежде чем вы…
– Нет-нет, – перебила она меня торопливо, – не прежде, чем я встану. Я спущусь к завтраку с Мэриан. Я не настолько неблагодарна и забывчива, чтобы не помнить последних трех месяцев…
Голос изменил ей, ее рука нежно пожала мою и тут же выпустила. Она ушла еще до того, как я успел пожелать ей «доброй ночи».
Конец моего рассказа быстро приближается, приближается с той же неизбежностью, с какой наступил рассвет в то последнее мое утро в Лиммеридже.
Когда я сошел к завтраку, еще не было половины восьмого, однако обе сестры уже ждали меня в столовой. В холодной и тускло освещенной комнате, в унылом утреннем безмолвии дома мы трое сели за стол и старались есть, старались говорить. Наши усилия оказались тщетны, и я встал из-за стола, чтобы положить этому конец.
Едва я протянул руку мисс Холкомб, которая была ближе ко мне, мисс Фэрли вдруг отвернулась и поспешно вышла из комнаты.
– Так лучше, – сказала мне мисс Холкомб, когда дверь закрылась, – лучше для вас и для нее.
С минуту я не мог вымолвить ни слова: тяжело было лишиться ее, не попрощавшись, не взглянув на нее в последний раз. Взяв себя в руки, я попытался проститься с мисс Холкомб в подобающих случаю выражениях, однако слова, которые мне хотелось ей высказать, свелись к единственной фразе:
– Заслуживаю ли я, чтобы вы написали мне?
Вот все, что я мог сказать.
– Вы заслуживаете всего, что будет в моих силах сделать для вас, пока мы оба живы. Каков бы ни был конец у этой истории, вы будете о нем знать.
– А если я снова смогу быть вам полезен, через много лет, когда изгладится память о моей самонадеянности и моем безумстве…
Я больше не мог говорить. Голос мой дрожал, а на глаза помимо моей воли выступили слезы.
Мисс Холкомб схватила мои руки и пожала их крепко и уверенно, по-мужски; темные глаза ее сверкнули; щеки вспыхнули; решительное и энергичное лицо просияло и сделалось прекрасным, озарившись чистым внутренним светом ее великодушия и сочувствия.
– Если нам понадобится помощь, я непременно обращусь к вам как к моему другу и ее другу, как к моему и ее брату.