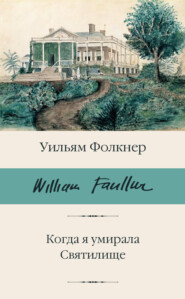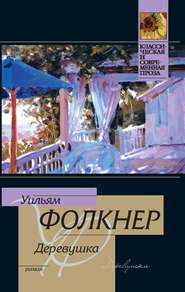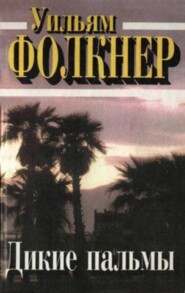По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Звук и ярость
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1929
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А тут наши рубашки. – Сказала Кэдди. – Словно мы переехали.
– И побыстрее их надевайте. – Сказала Дилси. – Расстегни-ка Джейсона.
Кэдди расстегнула Джейсона. Он начал плакать.
– Ты хочешь, чтобы тебя выдрали. – Сказала Дилси. Джейсон стих.
Квентин, сказала мама в коридоре.
Что, сказала Квентин за стеной. Мы слышали, как мама заперла дверь. Она посмотрела в нашу дверь, и вошла, и нагнулась над кроватью, и поцеловала меня в лоб.
Когда ты его уложишь, пойди и спроси Дилси, может быть, ей не угодно дать мне грелку, сказала мама. Скажи ей, что в этом случае я попробую обойтись. Скажи ей, что я просто хотела бы знать.
Да, мэм, сказал Ластер. Ну, давай. Снимай штаны.
Квентин и Верш вошли. Лицо Квентина было повернуто.
– Чего ты плачешь. – Сказала Кэдди.
– Тише. – Сказала Дилси. – Ну-ка, раздевайтесь. А ты иди домой, Верш.
Я стал раздетый, и я смотрел на себя, и я начал плакать. Тише, сказал Ластер. Ищи их не ищи, толку не будет. Нету их. А если не кончишь, никаких дней рождений тебе не будет. Он надел мою рубашку. Я стих, и тогда Ластер перестал, а его голова была повернута к окну. Потом он пошел к окну и посмотрел наружу. Он вернулся и взял мой локоть. Вон она, сказал он. Ну-ка, не шуми. Мы пошли к окну и посмотрели наружу. Оно вышло из окна Квентин и полезло поперек в дерево. Мы глядели, как дерево трясется. Тряска пошла вниз по дереву, потом оно вышло, и мы смотрели, как оно ушло по траве. Потом мы перестали его видеть. Давай-ка, сказал Ластер. Ну, вот. Слышишь, трубы. Ложись в кровать, а то я с ногами не совладаю.
Было две кровати. Квентин лег на другую. Он повернул свое лицо к стене. Дилси положила Джейсона к нему. Кэдди сняла свое платье.
– Ну-ка, погляди на свои панталончики. – Сказала Дилси. – Скажи спасибо, что мамаша тебя не видела.
– А я про нее уже рассказал. – Сказал Джейсон.
– Чего от тебя и ждать. – Сказала Дилси.
– И что тебе за это было. – Сказала Кэдди. – Ябеда.
– А что мне за это было. – Сказал Джейсон.
– Почему ты не надеваешь рубашку. – Сказала Дилси. Она пошла и помогла Кэдди снять лифчик и панталончики. – Полюбуйся на себя. – Сказала Дилси. Она свернула панталончики и потерла Кэдди сзади. – Ведь насквозь промокли. – Сказала она. – А купать тебя сегодня никто не будет. Ну, вот. – Она надела рубашку Кэдди на нее, и Кэдди залезла в кровать, и Дилси пошла к двери и положила руку на свет. – Ну, смотрите, не шумите. – Сказала она.
– Хорошо. – Сказала Кэдди. – Мама сегодня не придет. – Сказала она. – А потому мы будем слушаться меня.
– Да. – Сказала Дилси. – Ну-ка, спите.
– Мама больна. – Сказала Кэдди. – Они с Буленькой обе больны.
– Тише. – Сказала Дилси. – Спите скорее.
Комната стала черная, кроме двери. Потом дверь стала черная. Кэдди сказала:
– Тише, Мори. – И положила свою руку на меня, и я не стал растихать. Мы слышали нас. Мы слышали темноту.
Она ушла, и папа смотрел на нас. Он смотрел на Квентина и Джейсона, потом он пришел, и поцеловал Кэдди, и положил свою руку на мою голову.
– А мама очень больна. – Сказала Кэдди.
– Нет. – Сказал папа. – Ведь ты будешь хорошо заботиться о Мори.
– Да. – Сказала Кэдди.
Папа пошел к двери и опять посмотрел на нас. Потом опять пришла темнота. И он стоял черный в двери, а потом дверь опять стала черная. Кэдди держала меня, и я слышал нас всех, и темноту, и то, что я чуял. А потом я видел окна, где деревья жужжали. Потом темнота начала идти в гладкие яркие формы, как она всегда идет, даже когда Кэдди говорит, что я спал.
Второе июня 1910 года
На занавесках возникла тень оконной рамы, что означало семь часов утра, и я вновь уже был во времени и слышал, как тикают карманные часы. Они принадлежали деду, и когда отец отдал их мне, он сказал: Квентин, я дарю тебе гробницу всех надежд и желаний, и есть нечто прискорбно уместное в том, что ты используешь их для приобретения reducto absurdum[4 - Сведенный к абсурду (лат.).] всего человеческого опыта, который применим к твоим личным нуждам не больше, чем был применим к его нуждам или к нуждам его отца. Я дарю их тебе не для того, чтобы ты помнил о времени, но для того, чтобы ты иногда забывал о нем и не тщился победить его. Потому что, сказал он, ни одна битва никогда не выигрывается. Она даже не начинается. Поле брани только открывает человеку глаза на его собственное безумие и отчаяние, а победа – это самообман философов и глупцов.
Часы были прислонены к коробке из-под воротничков, и я лежал и слушал их. То есть не слушал, а слышал: вряд ли кто-нибудь сознательно слушает тиканье часов, карманных ли, или настенных. Зачем? Можно очень долго не слышать этого звука, а потом он за одно мгновение целиком воссоздаст в сознании всю длинную, исчезающую вдали процессию времени, которое прошло неуслышанным. Как сказал отец: можно увидеть, как по длинным раздельным солнечным лучам словно бы спускается Христос. И добрый святой Франциск, который говорил «сестра моя Смерть», у которого никогда не было сестры.
Я слышал, как за стеной заскрипели пружины кровати Шрива, и тут же его шлепанцы зашуршали по полу. Я встал, и подошел к комоду, и провел рукой по его верху, и нащупал часы, и положил их циферблатом вниз, и вернулся в постель. Но тень рамы лежала на занавесках, и я давно научился определять по ней время с точностью почти до минуты, а потому мне пришлось повернуться спиной, чувствуя, как чешутся глаза, которые некогда были у животных на затылке, бывшем тогда макушкой. Приобретаешь праздные привычки, чтобы потом жалеть. Это сказал отец. Что Христос не был распят: его уничтожило легкое пощелкивание крохотных колесиков. Что не было сестры.
И как только их уже нельзя было увидеть, я начал прикидывать, который час. Отец сказал: постоянные размышления о позиции механических стрелок на произвольно размеченном циферблате есть симптом функционирования сознания. Выделение, сказал отец, подобное поту. А я говорю: хорошо. Прикидывай. Прикидывай сколько хочешь.
Если бы было пасмурно, я мог бы смотреть на окно и думать о том, что он сказал о праздных привычках. Думать, что им в Нью-Лондоне было бы неплохо, если бы погода и дальше держалась такая. Почему бы и нет? Месяц юных новобрачных, глас, звучавший Она выбежала из зеркала, из скопления аромата. Розы. Розы. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон оповещают о бракосочетании их. Розы. Не девственницы, как кизил, молочай. Я сказал, я совершил кровосмешение, отец, сказал я. Розы. Хитрость и безмятежность. Если ты пробудешь в Гарварде год, но не увидишь лодочных гонок, деньги следовало бы вернуть. Пусть их получит Джейсон. Дайте Джейсону год в Гарварде.
Шрив стоял на пороге, пристегивая воротничок, а его очки поблескивали розовато, словно он умыл их вместе с лицом.
– Прогуливаешь сегодня?
– А что, уже так поздно?
Он посмотрел на свои часы.
– Через две минуты зазвонят.
– Я не думал, что так поздно. (Он все еще глядел на часы, округляя рот.) Мне придется поспешить. Еще один прогул – и мое дело плохо. Декан предупредил меня на прошлой неделе… – Он сунул часы в карман. И я замолчал.
– Ну, так натягивай поскорее штаны и бегом, – сказал он. И вышел.
Я встал и начал ходить по комнате, прислушиваясь к нему за стеной. Он прошел через гостиную к двери.
– Ты еще не готов?
– Нет еще. Ты иди. Я успею.
Он вышел. Дверь закрылась. Его ноги прошагали по коридору. Тогда я снова услышал часы. Я перестал ходить, и подошел к окну, и отдернул занавески, и поглядел, как они бегут в церковь: одни и те же суют руки в одни и те же вскинутые рукава сюртуков, те же книги и хлюпающие воротнички проносятся мимо, как мусор в половодье, и Споуд. Назвал Шрива моим супругом. Отстань от него, сказал Шрив, если у него хватает ума не гоняться за грязными шлюшками, так кому какое. На Юге стыдятся быть девственными. Мальчики. Мужчины. Они лгут про это. Потому что для женщины это значит меньше, сказал отец. Он сказал, что девственность придумали мужчины, а не женщины. Отец сказал, что это как смерть: всего лишь состояние, в котором остаются другие, а я сказал: но верить, что это не важно, а он сказал: это-то и грустно, и не только девственность, а и все остальное, а я сказал: почему недевственной должна была стать она, а не я, а он сказал: потому-то грустно и это – ничто не стоит даже того, чтобы его изменить, а Шрив сказал: если у него хватает ума не гоняться за грязными шлюшками, а я сказал: у вас когда-нибудь была сестра? Была? Была?
Споуд между ними был как черепаха на улице среди вихрей сухих листьев: воротничок до ушей, идет обычной неторопливой походкой. Он из Южной Каролины, старшекурсник. Его клуб хвастает, что он ни разу не бежал в церковь и ни разу не пришел туда вовремя, ни разу за четыре года не пропустил ни службы, ни занятий, и ни разу не явился в церковь или на первую лекцию в рубашке на теле и в носках на ногах. Около десяти он зайдет к Томпсону, потребует две чашки кофе, сядет, достанет носки из кармана, снимет башмаки и будет надевать носки, пока кофе стынет. К полудню на нем уже будет рубашка и воротничок, как на всех. Его то и дело обгоняли, но он не ускорил шага. Через несколько минут двор опустел.
Воробей косо прорезал солнечный луч и на подоконнике наклонил голову, глядя на меня. Глаз у него был круглый и блестящий. Он смотрел на меня одним глазом, а потом – оп! – и уже другим, а горлышко у него пульсировало чаще самого частого пульса. Начали бить куранты. Воробей перестал сменять глаза и глядел на меня, не отрываясь, все одним и тем же, пока не раздался последний удар, точно и он слушал. Потом спорхнул с подоконника и исчез.
Последний удар стих не сразу. Он еще долго дрожал в воздухе, не столько слышный, сколько ощутимый. Как все когда-либо звонившие колокола еще звонят длинными замирающими солнечными лучами, и Иисус, и святой Франциск, говорящий о своей сестре. Потому что если бы это было просто чтобы в ад, если бы это было только это, и все. Кончено. Если бы только все кончалось. И никого там, кроме нее и меня. Если бы только мы могли сделать что-то настолько ужасное, чтобы они бежали из ада, все, кроме нас. Я совершил кровосмешение сказал я отец это был я это не был Далтон Эймес. И когда он дал Далтон Эймес. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Когда он дал мне пистолет, я не стал. Вот почему я не стал. Он был бы там, и она, и я. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Если бы только мы могли сделать что-то настолько ужасное, и отец сказал: это тоже грустно, люди не могут сделать что-то настолько ужасное, они вообще не могут сделать хоть что-то очень ужасное, они даже не могут вспомнить завтра, что казалось им ужасным сегодня, и я сказал: так можно отстраниться от чего угодно, а он сказал: но можно ли? А я погляжу вниз и увижу мои бормочущие кости и глубокую воду, как ветер, как кровля из ветра, и после долгого времени уже нельзя будет различить даже кости на пустынном и нетронутом песке. И в тот день, когда Он скажет: восстаньте, только утюг всплывет из глубины. Но не когда ты понимаешь, что тебе ничто не может помочь – ни религия, ни гордость, ни что-нибудь другое, а когда ты понимаешь, что никакая помощь тебе не нужна. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Если бы я мог быть его матерью, когда она смеялась, приподняв разверстое тело, обнимая его отца, и моей рукой удержать, видеть, наблюдать, как он умрет, еще не живши. Мгновение она стояла в дверях.
– И побыстрее их надевайте. – Сказала Дилси. – Расстегни-ка Джейсона.
Кэдди расстегнула Джейсона. Он начал плакать.
– Ты хочешь, чтобы тебя выдрали. – Сказала Дилси. Джейсон стих.
Квентин, сказала мама в коридоре.
Что, сказала Квентин за стеной. Мы слышали, как мама заперла дверь. Она посмотрела в нашу дверь, и вошла, и нагнулась над кроватью, и поцеловала меня в лоб.
Когда ты его уложишь, пойди и спроси Дилси, может быть, ей не угодно дать мне грелку, сказала мама. Скажи ей, что в этом случае я попробую обойтись. Скажи ей, что я просто хотела бы знать.
Да, мэм, сказал Ластер. Ну, давай. Снимай штаны.
Квентин и Верш вошли. Лицо Квентина было повернуто.
– Чего ты плачешь. – Сказала Кэдди.
– Тише. – Сказала Дилси. – Ну-ка, раздевайтесь. А ты иди домой, Верш.
Я стал раздетый, и я смотрел на себя, и я начал плакать. Тише, сказал Ластер. Ищи их не ищи, толку не будет. Нету их. А если не кончишь, никаких дней рождений тебе не будет. Он надел мою рубашку. Я стих, и тогда Ластер перестал, а его голова была повернута к окну. Потом он пошел к окну и посмотрел наружу. Он вернулся и взял мой локоть. Вон она, сказал он. Ну-ка, не шуми. Мы пошли к окну и посмотрели наружу. Оно вышло из окна Квентин и полезло поперек в дерево. Мы глядели, как дерево трясется. Тряска пошла вниз по дереву, потом оно вышло, и мы смотрели, как оно ушло по траве. Потом мы перестали его видеть. Давай-ка, сказал Ластер. Ну, вот. Слышишь, трубы. Ложись в кровать, а то я с ногами не совладаю.
Было две кровати. Квентин лег на другую. Он повернул свое лицо к стене. Дилси положила Джейсона к нему. Кэдди сняла свое платье.
– Ну-ка, погляди на свои панталончики. – Сказала Дилси. – Скажи спасибо, что мамаша тебя не видела.
– А я про нее уже рассказал. – Сказал Джейсон.
– Чего от тебя и ждать. – Сказала Дилси.
– И что тебе за это было. – Сказала Кэдди. – Ябеда.
– А что мне за это было. – Сказал Джейсон.
– Почему ты не надеваешь рубашку. – Сказала Дилси. Она пошла и помогла Кэдди снять лифчик и панталончики. – Полюбуйся на себя. – Сказала Дилси. Она свернула панталончики и потерла Кэдди сзади. – Ведь насквозь промокли. – Сказала она. – А купать тебя сегодня никто не будет. Ну, вот. – Она надела рубашку Кэдди на нее, и Кэдди залезла в кровать, и Дилси пошла к двери и положила руку на свет. – Ну, смотрите, не шумите. – Сказала она.
– Хорошо. – Сказала Кэдди. – Мама сегодня не придет. – Сказала она. – А потому мы будем слушаться меня.
– Да. – Сказала Дилси. – Ну-ка, спите.
– Мама больна. – Сказала Кэдди. – Они с Буленькой обе больны.
– Тише. – Сказала Дилси. – Спите скорее.
Комната стала черная, кроме двери. Потом дверь стала черная. Кэдди сказала:
– Тише, Мори. – И положила свою руку на меня, и я не стал растихать. Мы слышали нас. Мы слышали темноту.
Она ушла, и папа смотрел на нас. Он смотрел на Квентина и Джейсона, потом он пришел, и поцеловал Кэдди, и положил свою руку на мою голову.
– А мама очень больна. – Сказала Кэдди.
– Нет. – Сказал папа. – Ведь ты будешь хорошо заботиться о Мори.
– Да. – Сказала Кэдди.
Папа пошел к двери и опять посмотрел на нас. Потом опять пришла темнота. И он стоял черный в двери, а потом дверь опять стала черная. Кэдди держала меня, и я слышал нас всех, и темноту, и то, что я чуял. А потом я видел окна, где деревья жужжали. Потом темнота начала идти в гладкие яркие формы, как она всегда идет, даже когда Кэдди говорит, что я спал.
Второе июня 1910 года
На занавесках возникла тень оконной рамы, что означало семь часов утра, и я вновь уже был во времени и слышал, как тикают карманные часы. Они принадлежали деду, и когда отец отдал их мне, он сказал: Квентин, я дарю тебе гробницу всех надежд и желаний, и есть нечто прискорбно уместное в том, что ты используешь их для приобретения reducto absurdum[4 - Сведенный к абсурду (лат.).] всего человеческого опыта, который применим к твоим личным нуждам не больше, чем был применим к его нуждам или к нуждам его отца. Я дарю их тебе не для того, чтобы ты помнил о времени, но для того, чтобы ты иногда забывал о нем и не тщился победить его. Потому что, сказал он, ни одна битва никогда не выигрывается. Она даже не начинается. Поле брани только открывает человеку глаза на его собственное безумие и отчаяние, а победа – это самообман философов и глупцов.
Часы были прислонены к коробке из-под воротничков, и я лежал и слушал их. То есть не слушал, а слышал: вряд ли кто-нибудь сознательно слушает тиканье часов, карманных ли, или настенных. Зачем? Можно очень долго не слышать этого звука, а потом он за одно мгновение целиком воссоздаст в сознании всю длинную, исчезающую вдали процессию времени, которое прошло неуслышанным. Как сказал отец: можно увидеть, как по длинным раздельным солнечным лучам словно бы спускается Христос. И добрый святой Франциск, который говорил «сестра моя Смерть», у которого никогда не было сестры.
Я слышал, как за стеной заскрипели пружины кровати Шрива, и тут же его шлепанцы зашуршали по полу. Я встал, и подошел к комоду, и провел рукой по его верху, и нащупал часы, и положил их циферблатом вниз, и вернулся в постель. Но тень рамы лежала на занавесках, и я давно научился определять по ней время с точностью почти до минуты, а потому мне пришлось повернуться спиной, чувствуя, как чешутся глаза, которые некогда были у животных на затылке, бывшем тогда макушкой. Приобретаешь праздные привычки, чтобы потом жалеть. Это сказал отец. Что Христос не был распят: его уничтожило легкое пощелкивание крохотных колесиков. Что не было сестры.
И как только их уже нельзя было увидеть, я начал прикидывать, который час. Отец сказал: постоянные размышления о позиции механических стрелок на произвольно размеченном циферблате есть симптом функционирования сознания. Выделение, сказал отец, подобное поту. А я говорю: хорошо. Прикидывай. Прикидывай сколько хочешь.
Если бы было пасмурно, я мог бы смотреть на окно и думать о том, что он сказал о праздных привычках. Думать, что им в Нью-Лондоне было бы неплохо, если бы погода и дальше держалась такая. Почему бы и нет? Месяц юных новобрачных, глас, звучавший Она выбежала из зеркала, из скопления аромата. Розы. Розы. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон оповещают о бракосочетании их. Розы. Не девственницы, как кизил, молочай. Я сказал, я совершил кровосмешение, отец, сказал я. Розы. Хитрость и безмятежность. Если ты пробудешь в Гарварде год, но не увидишь лодочных гонок, деньги следовало бы вернуть. Пусть их получит Джейсон. Дайте Джейсону год в Гарварде.
Шрив стоял на пороге, пристегивая воротничок, а его очки поблескивали розовато, словно он умыл их вместе с лицом.
– Прогуливаешь сегодня?
– А что, уже так поздно?
Он посмотрел на свои часы.
– Через две минуты зазвонят.
– Я не думал, что так поздно. (Он все еще глядел на часы, округляя рот.) Мне придется поспешить. Еще один прогул – и мое дело плохо. Декан предупредил меня на прошлой неделе… – Он сунул часы в карман. И я замолчал.
– Ну, так натягивай поскорее штаны и бегом, – сказал он. И вышел.
Я встал и начал ходить по комнате, прислушиваясь к нему за стеной. Он прошел через гостиную к двери.
– Ты еще не готов?
– Нет еще. Ты иди. Я успею.
Он вышел. Дверь закрылась. Его ноги прошагали по коридору. Тогда я снова услышал часы. Я перестал ходить, и подошел к окну, и отдернул занавески, и поглядел, как они бегут в церковь: одни и те же суют руки в одни и те же вскинутые рукава сюртуков, те же книги и хлюпающие воротнички проносятся мимо, как мусор в половодье, и Споуд. Назвал Шрива моим супругом. Отстань от него, сказал Шрив, если у него хватает ума не гоняться за грязными шлюшками, так кому какое. На Юге стыдятся быть девственными. Мальчики. Мужчины. Они лгут про это. Потому что для женщины это значит меньше, сказал отец. Он сказал, что девственность придумали мужчины, а не женщины. Отец сказал, что это как смерть: всего лишь состояние, в котором остаются другие, а я сказал: но верить, что это не важно, а он сказал: это-то и грустно, и не только девственность, а и все остальное, а я сказал: почему недевственной должна была стать она, а не я, а он сказал: потому-то грустно и это – ничто не стоит даже того, чтобы его изменить, а Шрив сказал: если у него хватает ума не гоняться за грязными шлюшками, а я сказал: у вас когда-нибудь была сестра? Была? Была?
Споуд между ними был как черепаха на улице среди вихрей сухих листьев: воротничок до ушей, идет обычной неторопливой походкой. Он из Южной Каролины, старшекурсник. Его клуб хвастает, что он ни разу не бежал в церковь и ни разу не пришел туда вовремя, ни разу за четыре года не пропустил ни службы, ни занятий, и ни разу не явился в церковь или на первую лекцию в рубашке на теле и в носках на ногах. Около десяти он зайдет к Томпсону, потребует две чашки кофе, сядет, достанет носки из кармана, снимет башмаки и будет надевать носки, пока кофе стынет. К полудню на нем уже будет рубашка и воротничок, как на всех. Его то и дело обгоняли, но он не ускорил шага. Через несколько минут двор опустел.
Воробей косо прорезал солнечный луч и на подоконнике наклонил голову, глядя на меня. Глаз у него был круглый и блестящий. Он смотрел на меня одним глазом, а потом – оп! – и уже другим, а горлышко у него пульсировало чаще самого частого пульса. Начали бить куранты. Воробей перестал сменять глаза и глядел на меня, не отрываясь, все одним и тем же, пока не раздался последний удар, точно и он слушал. Потом спорхнул с подоконника и исчез.
Последний удар стих не сразу. Он еще долго дрожал в воздухе, не столько слышный, сколько ощутимый. Как все когда-либо звонившие колокола еще звонят длинными замирающими солнечными лучами, и Иисус, и святой Франциск, говорящий о своей сестре. Потому что если бы это было просто чтобы в ад, если бы это было только это, и все. Кончено. Если бы только все кончалось. И никого там, кроме нее и меня. Если бы только мы могли сделать что-то настолько ужасное, чтобы они бежали из ада, все, кроме нас. Я совершил кровосмешение сказал я отец это был я это не был Далтон Эймес. И когда он дал Далтон Эймес. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Когда он дал мне пистолет, я не стал. Вот почему я не стал. Он был бы там, и она, и я. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Если бы только мы могли сделать что-то настолько ужасное, и отец сказал: это тоже грустно, люди не могут сделать что-то настолько ужасное, они вообще не могут сделать хоть что-то очень ужасное, они даже не могут вспомнить завтра, что казалось им ужасным сегодня, и я сказал: так можно отстраниться от чего угодно, а он сказал: но можно ли? А я погляжу вниз и увижу мои бормочущие кости и глубокую воду, как ветер, как кровля из ветра, и после долгого времени уже нельзя будет различить даже кости на пустынном и нетронутом песке. И в тот день, когда Он скажет: восстаньте, только утюг всплывет из глубины. Но не когда ты понимаешь, что тебе ничто не может помочь – ни религия, ни гордость, ни что-нибудь другое, а когда ты понимаешь, что никакая помощь тебе не нужна. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Далтон Эймес. Если бы я мог быть его матерью, когда она смеялась, приподняв разверстое тело, обнимая его отца, и моей рукой удержать, видеть, наблюдать, как он умрет, еще не живши. Мгновение она стояла в дверях.