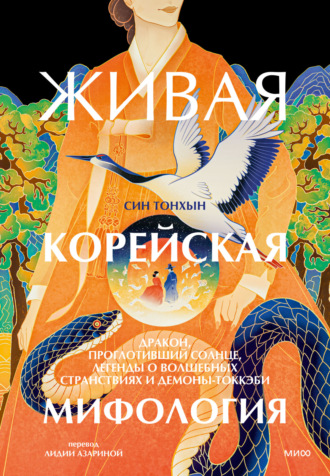
Живая корейская мифология. Дракон, проглотивший солнце, легенды о волшебных странствиях и демоны-токкэби

Наполненные необычными символами понпхури о создании мира можно считать прототипами мифов о творении. Однако, знакомясь с источниками, невольно задаешься вопросом: почему все без исключения божества, которым отводятся главные роли в сотворении вселенной, мужского пола? За исключением супруги Чхончжи-вана Пагиван (Чхонмён-пуин), родившей ему сыновей-близнецов, все остальные герои: Майтрея, Тосумунчжан, Сумёнчанчжа, Собёль-ван, Тэбёль-ван, – мужчины. Как это следует трактовать?
Если источники предлагают подобную картину мира, пожалуй, правильнее будет принять ее и постараться понять. Важнее изучать символы и значения, заложенные в тексте, а проблему пола можно оставить за скобками. Однако именно из-за источников я и выношу этот вопрос на обсуждение. Дело в том, что существует сказание о богине творения.
Во время визита на Чечжудо и встреч с местными жителями я столкнулся с одним любопытным фактом. Местный миф-понпхури из шаманского обряда ясно называет Тосумунчжана богом-творцом, разделившим небо и землю; мальчика в голубых одеждах Панго – явившимся из земли первосуществом; Тэбёль-вана и Собёль-вана – установителями порядка во вселенной. Однако среди жителей Чечжудо немногим известны эти имена. Если спросить людей, кто является божеством острова, большинство назовут легендарную Сольмун-тэхальман – великую старуху Сольмун, создательницу горы Халласан и холмов, островов и скал. Существует множество историй о ней (другие варианты ее имени – Сонмун-тэхальман, Сольмён-тухальман). Вот несколько отрывков из книги Хён Ёнчжуна «Легенды острова Чечжудо» (издательство «Сомундан», 1976).

В давние времена жила на свете старуха по имени Сольмун-тэхальман. Усевшись на горе Халласан, поставив одну ногу на остров Квантхаль, а другую – на остров Чигвисом (или Марадо), что напротив уезда Согвиып, она стирала в кратере вулкана Сонсанбон и складывала белье на остров Сосом (Удо).
В старину Сосом не был отдельным островом. Как-то раз старуха Сольмён-тэхальман мочилась, уперевшись одной ногой в пик Сиксанбон, что близ деревни Очжори в волости Сонсанмён, а другой – в пик Ильчхульбон у деревни Сонсанни. Струя ее была так сильна, что рассекла землю. Так с одной стороны суши появились река Тонган и остров Сосом. Моча старухи превратилась в море между тем островом и горой Сонсан. Мощная струя пробила огромную впадину, и теперь там глубокие воды, где живут киты и тюлени. С того самого случая появились сильные течения, из-за которых терпят крушение корабли. Если в тех местах разбивается корабль, волны уносят обломки прочь, так что найти их невозможно.
На острове Чечжудо много холмов. Говорят, это старуха носила в подоле землю и та понемногу сыпалась сквозь дыру.
Старуха была такой огромной, что не могла найти себе подходящей одежды. Она пообещала построить мост до материка, если ей смастерят исподнее. Но для этого требовалось сто корзин шелка (в каждой корзине по пятьдесят мотков). Люди на острове сделали все возможное, чтобы найти нужное количество шелка, но набралось только девяносто девять корзин. Так что одежду для старухи так и не сшили, и мост остался недостроенным. Говорят, что скалистый гребень в море напротив деревень Чочхонни и Синчхонни уезда Чочхонмён – остатки того моста.
Старуха Сонмун решила проверить, есть ли на острове Чечжудо водоем, в который она уйдет с головой. Она прослышала об озере у водопада в районе Йондамдон города Чечжу, но вода в нем едва покрыла ее ступни. Потом ей рассказали об озере Хоннимуль в деревне Сохынни уезда Согвиып, но вода в нем достала ей только до колен. Так Сонмун дошла до озера Мульчжанори на горе Халласан, вошла в него – и утонула. Старуха не знала, что в озере провалилось дно.

Во всех этих историях подчеркивается, что Сольмун-тэхальман – настоящая великанша. Восседающая на горе Халласан, уперевшись обеими ногами в морские острова, она представляется не меньше самого Чечжудо. Примечательно, что Сольмун-тэхальман причастна к акту творения: старуха носит в подоле землю, и та, просыпаясь сквозь дыру, превращается в бесчисленные холмы на острове; старуха мочится – и ее обильная струя отделяет часть суши – остров Сосом. Все это истории о творении и изменении природы. Каждое движение этой гигантской женщины сотрясает и трансформирует окружающий мир.
Следует уточнить, что легенда повествует не столько о первичном создании мира, сколько о видоизменении уже существующего. Деяния Сольмун-тэхальман отличаются от деяний Тосумунчжана, который путем отделения неба от земли положил начало космосу. В фокусе истории о старухе не вселенная целиком, а только единственный остров, сотворение и модификация его природы, что отличает эту легенду от космогонических мифов. Она имеет характер топонимической легенды. Трагический финал – смерть переоценившей свои способности Сольмун-тэхальман в озере – также характерен для легенды, но не для мифа. Эта история дошла до нас иными путями, чем мифы о творении, входившие в состав шаманских ритуалов.
Таковы были мои прежние соображения по поводу старухи Сольмун-тэхальман. Аналогичное мнение распространено и в академических кругах. Но однажды я наткнулся на источник, который заставил меня усомниться. Это была легенда «Сольмун-тэхальман», рассказанная в 1980 году Сон Гичжо из Орадона в городе Чечжу (Библиотека корейского фольклора, 9–2. Академия корееведения, 1981). На просьбу рассказать историю о создании Сольмун горы Халласан Сон Гичжо поведал следующее: «В давние времена небо было прилеплено к земле, но явился большой человек и разделил их. В море он жить не мог, поэтому зачерпнул с одного края землю и сделал остров Чечжудо». Велика вероятность, что под «большим человеком» имеется в виду старуха-великанша.
Выходит, небо и землю разделил не Тосумунчжан, а Сольмун-тэхальман?
Скоро я перестал сомневаться и согласился с этим. У меня зародилась гипотеза относительно истории о создании мира. Не исключено, что изначально существом, разделившим небо и землю, была именно богиня-женщина. Великая мать, воплощение идеи первичного творения, рождает мироздание. Это очень естественное архетипическое представление. В греческой мифологии богиня земли Гея породила великих богов и сделала возможным создание вселенной. Не исключено, что и в корейской мифологии у истоков творения стояла женщина. Но по мере развития истории и культуры все прочнее утверждалась доминирующая мужская роль. Мифологическая система также претерпела изменения, и на место богини-женщины пришел бог-мужчина. И все же, как сказал мифолог Ко Хегён, «вначале была старуха» (Ко Хегён. Вначале была старуха. Издательство «Хангёре», 2010).
В дошедших до наших дней шаманских песнях о творении мира мы не встретим образа богини. Он сохранился в легендах. Но это весьма негативный образ. Не найдя себе места в этом мире, Сольмун стала для людей обузой. Об этом ясно говорит тот факт, что старуха вынудила жителей острова искать пять тысяч мотков шелка, чтобы сшить ей одежду. Не находя себе применения, она бродяжничала, пока однажды не утонула в бездонном озере Мульчжанори. Так богиня творения великая старуха Сольмун исчезла с лица земли.
Подобные сказания не ограничиваются островом Чечжудо. В материковых районах Кореи также можно обнаружить немало следов легенд о гигантской богине творения. Истории о великанше по имени старуха Маго, или Ного, или Кеян, или Кенгу и так далее известны в разных уголках страны. Почти все они рисуют образ гигантской богини, причастной к делу творения мира и матери-природы: она воздвигает горы, прокладывает долины, создает моря и перемещает острова. Добравшись до самых истоков, мы наверняка встретим там и историю сотворения неба и земли.
Следы богини, обычно именуемой Маго, постепенно теряются. Если ее образ и встречается в шаманских мифах, то ему отведена далеко не главная роль. Как мы увидим позже, в мифе «Пари-тэги» Маго-хальми предстает как старуха-прачка, которая испытывает героиню и помогает ей. Этот образ ближе к второстепенному образу волшебного помощника. Однако ее присутствие в мифе – случай исключительный. Образ богини творения незаметно стирается из памяти людей. Взять хотя бы известную в Порёне Кенгу-хальми. Я пытался найти связанные с ее именем места, но даже обрывки сказаний отыскать было непросто. В легендах Маго утратила изначальную божественную сущность и была низведена до уродливого призрака-изгоя. Возможно, превращение Маго в старуху-ведьму Магви является ключевым моментом в истории нашей культуры[11].
Конечно, все это лишь предположения и гипотезы. Существование богинь творения, их статус в мифологии – вопросы, которые надлежит исследовать путем широкого привлечения источников. Над этой задачей уже работают. Однако чрезмерное внимание к полу богов представляется излишним. Бог – изначально космически открытое существо, поэтому не будет ошибкой видеть в Тосумунчжане или Майтрее не мужское, а женское начало. Можно утверждать, что, только выходя за пределы подобных ограничивающих категорий, миф и становится мифом. В те времена, когда небо и земля были одним целым, мужское и женское тоже существовали в единстве.

Глава 2. Мифы как истории о жизни и судьбе
Бросились мать и дочь друг к другу в объятия, обливаясь слезами.В это время из каменной пещеры раздался детский плач.Заглянула мать в пещеру – и увидела трех младенцеви трех белых журавлей.Каждый одно крыло на землю подстилал,другим дитя укрывал.Каждый журавль младенца обнимал.Ким Юсон (Йониль) «Тангым»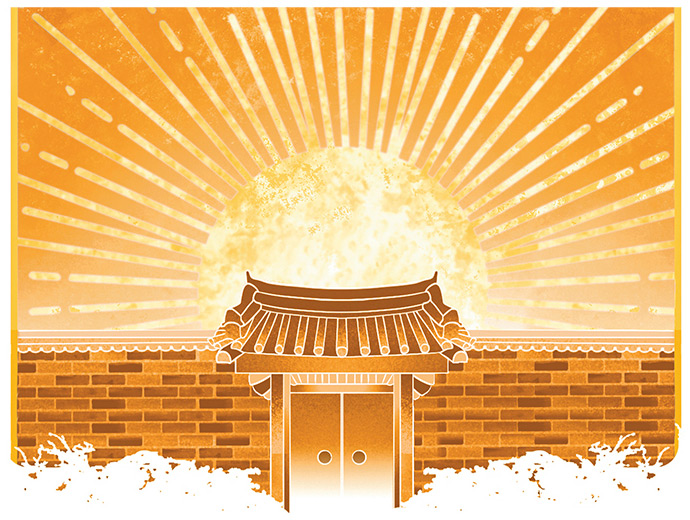

Как простыми словами объяснить, что такое миф?
Читая лекции по мифологии, я часто спрашиваю об этом моих слушателей и обычно слышу в ответ, что мифы – это истории о богах. Такое мнение вполне правомерно: мифы действительно повествуют о многочисленных божествах. Но если взглянуть глубже, картина меняется. Не все истории о богах являются мифами. Боги также выступают героями народных сказок или романов. Кроме того, не все мифы повествуют о богах – во многих ведущую роль играют люди, а божеств как таковых и нет.
В научных кругах миф обычно определяется как «священная история». Когда-то мифологический сюжет наделялся особой ценностью и сакральностью. Небрежное отношение к мифам расценивалось как акт неуважения. К примеру, если житель Когурё не принимал легенды об основателе государства Чумоне, то он переставал считаться представителем своего народа. Точно так же человек, не признававший существование и божественность Афины или Зевса, не мог стать гражданином Греции. Иногда мифы ценились выше самой жизни. Если люди отрицают божественное, история перестает быть мифом.
Так что же такое божественное? По этому вопросу существует несколько различных точек зрения. Есть мнение, что сфера божественного находится где-то за гранью бытия. При таком подходе оно рассматривается как великая сила, к которой человек не смеет приблизиться. Иначе говоря, божественное и человеческое наделяются качественными различиями. Согласно другому взгляду, божественное существует не где-нибудь в неведомой дали, а совсем близко, даже внутри нас самих. Оно проявляется в необыкновенных способностях человека, в добродетели и т. д. Получается, что божественное и человеческое сообщаются друг с другом.
Мне сложно решить, какой из этих двух подходов справедливее. Божественное – это нечто находящееся и за пределами, и в то же время внутри нас. Если уподобить божественное животворному свету, то это свет, пронизывающий все вокруг. Любую силу или ценность, которая пробуждает и возвышает человеческий дух и помогает ему реализоваться, можно считать божественной.
Однако было бы неверно приписывать это свойство всем положительным явлениями нашего мира. Божественной может считаться только та светлая и глубокая сила, которая непосредственно касается основ существования человека и мироздания и взывает к фундаментальной истине бытия. Истории, несущие в себе подобную силу, истории, к которым относятся с трепетом и которые воспринимают как священные, и являются мифами. Они преодолевают границы пространства и времени и становятся светом для всех людей.
Именно такими видятся мне корейские мифы. Они заставляют нас столкнуться лицом к лицу с самими собой и озаряют возвышенным божественным светом.

Среди богатого наследия острова Чечжудо есть шаманская песня «Вончхонган понпхури». Этот полузабытый миф больше не исполняется, остались только записи семидесятилетней давности. Однако лежащая в его основе история, похожая на сказку, слишком прекрасна, чтобы предавать ее забвению[12]. Это также на удивление архетипический миф.
Изначально Вончхонган было именем китайского пророка. Оно часто встречается в шаманских песнях, например в выражении «гадание Вончхонгана». Однако в этом понпхури так называется далекая таинственная страна, куда отправилась главная героиня. Это пространство, связанное с истоками бытия. Само его название ассоциируется со словом «вончхон» – «исток». Хотя это не более чем предположение, вероятность, что название было выбрано по созвучию, очень велика. Вончхонган в этой истории предстает действительно уникальным местом.
Итак, Вончхонган – это загадочная страна, исток бытия. Туда отправляется юная героиня – девочка по имени Оныль родом из Каннимдыля, выросшая одна в пустынном поле.


Давным-давно в пустынном поле появилась девочка, прекрасная, как нефрит. Нашедшие ее люди спрашивали:
– Кто ты такая? Откуда ты взялась?
– Я из Каннимдыля.
– Как тебя зовут, как твоя фамилия?
– Я не знаю своего имени, не знаю своей фамилии.
– Как ты тут жила до сих пор одна-одинешенька?
– С тех пор как я появилась на свет, ко мне прилетал небесный журавль: одно крыло на землю подстилал, другим от ветра укрывал и волшебные жемчужины дарил. Потому я жила и бед не ведала.
– Сколько же тебе лет?
– Этого я тоже не знаю.
Тогда люди сказали:
– Раз ты не знаешь, сколько тебе лет, будем считать, что ты только сегодня и родилась. Так и станем тебя звать – Оныль, «сегодня».
Прошло время, и девочка отправилась к госпоже Пэк, матери Пагиван.
– Ты ведь Оныль? – спросила женщина.
– Да, верно.
– А ты знаешь, где твои родители?
– Не знаю.
– Они в стране Вончхонган.
– А как туда попасть?
– В краю Белого песка есть высокая башня, в ней сидит юноша и читает книги. Спроси у него – он скажет, – ответила женщина.
Оныль пошла вдоль реки Сочхонган и нашла башню в краю Белого песка. Целый день она простояла у дверей, а когда настал вечер, вошла и промолвила:
– Доброго здоровья! Пустите странницу.
Ей навстречу вышел юноша в голубых одеждах и спросил, кто она такая.
– Я Оныль, – ответила девочка. – А вы кто будете?
– Меня зовут Чансан. Мне велено сидеть здесь и читать книги. Что же привело тебя сюда?
– Мои родители живут в стране Вончхонган. Я ищу туда дорогу.
Услышав это, юноша в голубых одеждах любезно сказал:
– Уже поздно. Переночуй здесь, а на рассвете отправишься в путь. Впереди есть лотосовый пруд, у пруда растет лотосовое дерево. Оно тебе поможет.
Потом Чансан добавил:
– Когда придешь в страну Вончхонган, узнай, отчего я должен день и ночь читать здесь книги. Почему никуда не могу выйти из этой башни.
Когда рассвело, Оныль отправилась в путь. Скоро в самом деле показался лотосовый пруд, а возле него – лотосовое дерево.
– Дерево-дерево, как дойти до страны Вончхонган? – спросила Оныль.
– А зачем тебе туда?
– Меня зовут Оныль, я иду в страну Вончхонган, потому что там мои родители.
– Вот и славно! Тогда исполни мою просьбу. Зимой в моих корнях появляется сок, в первый месяц наливается соками ствол, во второй – ветви, в третий – распускаются цветы. Только расцветают они на самой верхней ветке, а другие остаются голыми. Когда дойдешь до страны Вончхонган, узнай, отчего у меня такая доля.
– Непременно узнаю, – пообещала Оныль.
– На берегу синего моря Чхонсу увидишь большого змея. Спроси у него дорогу.
Простившись с лотосовым деревом, Оныль продолжила путь. Долго ли, коротко ли, она дошла до синего моря Чхонсу. На берегу его лежал большой змей. Девочка поведала ему обо всем, что с ней приключилось, и попросила:
– Укажите мне путь в страну Вончхонган!
– Указать путь – дело нехитрое. Но тогда и ты окажи мне услугу, – ответил змей.
– Какую услугу?
– Другие змеи, имея лишь один камень-самоцвет, становятся драконами и возносятся на небо. У меня же их три, а в дракона я до сих пор не превратился. Узнай в стране Вончхонган, что мне делать.
Оныль пообещала ему помочь, и тогда змей посадил ее на спину, вошел в воду и переплыл море.
– По пути ты встретишь девушку по имени Мэиль. Спроси у нее дорогу.
Оныль простилась с большим змеем и пошла дальше. Она шла и шла, пока не встретила девушку по имени Мэиль. Та сидела в башне и читала книги, точно как юноша Чансан. Оныль поприветствовала ее и задала свой вопрос. Пообещав ей помочь, Мэиль попросила:
– Когда дойдешь до страны Вончхонган, узнай, отчего у меня такая судьба – почему я должна вечно сидеть здесь и читать?
Оныль переночевала в башне, а когда наутро собралась уходить, Мэиль сказала:
– По пути ты встретишь у колодца королевских служанок. Они исполнят твое желание.
Оныль шла все дальше и дальше и наконец увидела у колодца девушек. Они горько плакали.
– Мы родом из небесной страны Окхван. За провинность, за то, что пролили воду, нас сослали на землю. Пока все не вычерпаем, не можем вернуться домой. Да вот ведро прохудилось, а потому, как мы ни стараемся, все напрасно. Помоги нам!
– Если сами небожители не могут справиться, разве это под силу немощному человеку? – удивилась Оныль.
Однако она тут же кое-что придумала. Девочка велела служанкам нарвать травы. Связала ее, заткнула дыру в корзине и замазала сосновой смолой, а потом вознесла горячую мольбу небесам. Совсем скоро вся вода из колодца была вычерпана. Служанки бросились кланяться Оныль, радуясь так, будто она спасла их от смерти.
– Мы проводим тебя!
Небожительницы повели Оныль в страну Вончхонган. Когда вдалеке показался дворец, они благословили Оныль и пошли своей дорогой. Оныль же направилась ко дворцу. Он оказался окружен высокой крепостной стеной. У входа стоял страж.
– Ты кто такая? – спросил он.
– Меня зовут Оныль. Я из мира людей.
– Что привело тебя сюда?
– Здесь мои родители – я пришла увидеться с ними.
– Я не могу тебя впустить, – холодно ответил страж.
У бедняжки земля ушла из-под ног. Убитая горем, она упала перед воротами и разрыдалась:
Из далекого мира людей, что лежит за миллионы ли,через горы и реки, одна-одинешенька,в кровь ноги стоптав, пришла Оныльв край, где живут ее родители.Как ты жесток, суровый страж!Там, за воротами, мои отец и мать,а я стою здесь и не могу войти.Обещала Мэиль, что мое желание сбудется,да божества Вончхонгана не ведают жалости.Девочка, плакавшая в пустынном поле,бедняжка, преодолевшая десять тысяч гор,безнадежно стоит у ворот.Видели ли меня отец и мать?Все ли я сделала, что надлежало?Зачем возвращаться в родные земли?Лучше здесь умереть.Как же мне выполнить все просьбы?Как отплатить за полученное добро?Жестокосердный страж! Жестокие боги!Любезный отец, любезная мать,как я стосковалась по вам!Так стенала бедная Оныль, и ее горькие слезы растопили каменное сердце стража. Он доложил родителям Оныль о случившемся, и те тот же час велели ее впустить. Оныль поверить не могла своему счастью. Когда она предстала перед родителями, отец спросил:
– Кто ты такая и зачем ты здесь?
Оныль поведала обо всем, что с ней случилось: как она жила в поле под опекой журавля, как скиталась в поисках отца и матери.
– Чудесная малышка! Ты и вправду наше дитя! – воскликнули родители. – В тот день, когда ты появилась на свет, Нефритовый император призвал нас охранять страну Вончхонган. Разве могли мы ослушаться повеления свыше? Пришлось повиноваться. Но мы всегда были рядом и оберегали тебя.
Вдоволь наговорившись с дочерью, отец и мать сказали:
– Раз уж ты пришла сюда, не желаешь ли получше познакомиться со страной Вончхонган?
Оныль отперла одну за другой двери в крепостной стене и увидела за ними четыре времени года: весну, лето, осень и зиму.
– А теперь мне пора возвращаться, – сказала девочка.
Перед тем как уйти, она поведала родителям о просьбах ее новых знакомых, и отец с матерью рассказали, как им помочь.
– Если Чансан и Мэиль встретятся, они станут супругами и будут жить долгие годы в довольстве и радости. Лотосовое дерево пусть подарит цветущую ветку первому встречному, тогда на других его ветвях тоже распустятся цветы. У змея должен остаться только один камень-самоцвет – с тремя ему не превратиться в дракона. Пускай отдаст два камня первому встречному. А ты, если будешь иметь цветок лотоса и камни-самоцветы, станешь небесной феей.
На обратном пути Оныль снова проходила мимо башни, где жила Мэиль. Она передала девушке слова родителей.
– Но я не знаю, где искать Чансана, – сказала та.
– Я отведу тебя к нему, – пообещала Оныль.
Они пошли вместе и на берегу моря встретили змея. Услышав предсказание, змей тотчас отдал два камня-самоцвета девочке. В следующее мгновение он обратился в дракона и с шумом взвился в небо.
Оныль открыла лотосовому дереву, как ему исполнить заветное желание. Как только дерево подарило ей свою единственную цветущую ветку, вся его крона покрылась прекрасными благоуханными цветами.
Наконец девочка привела свою спутницу к Чансану. Молодые люди поженились и с тех пор зажили в довольстве и радости.
Один из камней-самоцветов Оныль в знак благодарности отдала госпоже Пэк. Девочка стала божественной феей в небесной стране, ей было доверено запечатлевать Вончхонган во всех концах земли.

Таково содержание «Вончхонган понпхури». В приведенном здесь тексте почти нет сокращений и добавлений. Имена героев – Оныль, Мэиль, Чансан – также взяты из исходного источника. Под большим змеем имеется в виду змееподобный безрогий дракон имуги, который не умеет летать, а под камнем-самоцветом – волшебная жемчужина, но и тут я не стал менять оригинал. Заключительная фраза не совсем понятна. Что значит «запечатлевать Вончхонган»? Возможно, имеется в виду передача миру принципов и сакрального опыта той неведомой страны. В мифологическом контексте это может означать, что Оныль стала богиней Вончхонгана.
Даже тем из корейцев, кто не знает названия «Вончхонган понпхури», эта история не покажется совсем незнакомой. Остается впечатление, будто где-то ее уже слышал. Дело в том, что подобный сюжет встречается в народных сказках. По содержанию миф «Вончхонган понпхури» очень похож на известную сказку «Путешествие за счастьем», герой которой странствует в незнакомом мире в поисках благополучия и, помогая различным существам в их бедах, обретает искомое. По структуре эти два произведения практически идентичны. Особенно это касается сцены со змеем – здесь содержание почти полностью совпадает.
Сложно предположить, какое из них появилось раньше. Оба они архетипичны, поэтому, вполне возможно, были созданы независимо друг от друга. Однако, учитывая древнюю историю и широкую известность в Корее сказки «Путешествие за счастьем», можно допустить, что структура ее сюжета легла в основу «Вончхонган понпхури». В конце концов, важно вовсе не временное первенство, а качественные характеристики. Через архетипические мотивы, полные мифологических символов, «Вончхонган понпхури» поднимает вопросы бытия и судьбы. Это произведение в полной мере обладает характером мифа. Удивительно, как история, возникшая из адаптации народной сказки, переродилась в миф.
Давайте погрузимся в саму историю. Действие в «Вончхонган понпхури» начинается в пустынном поле. Там живет девочка, которая не знает ни своего имени, ни фамилии, ни возраста. Единственный ее друг в этом суровом мире – небесный журавль. При одной мысли о такой участи беззащитного ребенка сердце сжимается от жалости. Юная героиня олицетворяет исконное человеческое одиночество. Такова доля человека – с неутешным плачем быть заброшенным в этот мир и нести на своих плечах все его тяготы.

