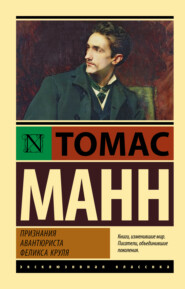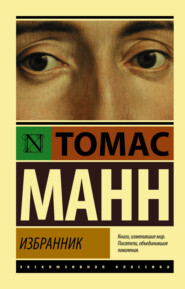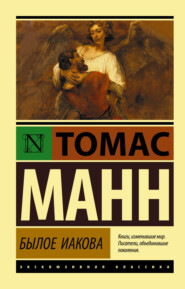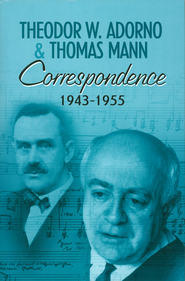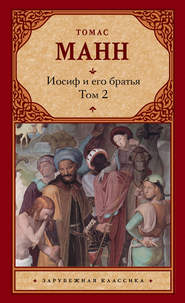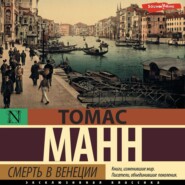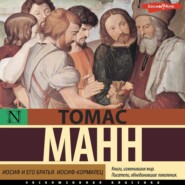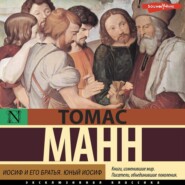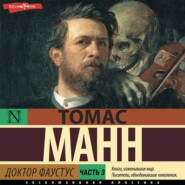По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смерть в Венеции (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, сударыня, «Эйнфрид» – это чистый ампир. Говорят, когда-то здесь был замок, летняя резиденция. Это крыло – позднейшая пристройка, но главное здание сохранилось нетронутым. Иногда вдруг я чувствую, что никак не могу обойтись без ампира, временами он мне просто необходим, чтобы сохранить сносное самочувствие. Ведь это так понятно, что среди мягкой и чрезмерно удобной мебели чувствуешь себя иначе, чем среди этих прямых линий столов, кресел и драпировок… Эта ясность и твердость, эта холодная, суровая простота, сударыня, поддерживают во мне собранность и достоинство, они внутренне очищают меня, восстанавливают мои душевные силы, возвышают нравственно.
– Да, это любопытно, – сказала она. – Впрочем, я смогу это понять, если постараюсь.
Он отвечал, что не стоит стараться, и оба они рассмеялись. Советница Шпатц тоже рассмеялась и нашла, что все это любопытно, но она не сказала, что сможет это понять.
Гостиная в «Эйнфриде» была просторная и красивая. Высокая белая двустворчатая дверь обычно стояла распахнутой в бильярдную, где развлекались господа с непокорными ногами и другие пациенты. С другой стороны застекленная дверь открывала вид на широкую террасу и сад. Сбоку от нее стояло пианино. Был здесь и обитый зеленым сукном ломберный стол, за которым генерал-диабетик и еще несколько мужчин играли в вист. Дамы читали или занимались рукодельем. Комната отапливалась железной печью, но уютнее всего было беседовать у изящного камина, где лежали поддельные угли, оклеенные полосками красноватой бумаги.
– Рано вы любите вставать, господин Шпинель, – сказала супруга господина Клетериана. – Мне случалось уже два или три раза видеть, как вы выходите из дому в половине восьмого утра.
– Я люблю рано вставать? Ах, вовсе нет, сударыня. Я, видите ли, рано встаю потому, что, собственно, люблю поспать.
– Ну, вам придется это пояснить мне, господин Шпинель.
Советница Шпатц тоже потребовала пояснения.
– Как вам сказать… если человек любит рано вставать, то ему, по-моему, и незачем подниматься ранним утром. Совесть, сударыня… вот где собака зарыта! Я и мне подобные, мы всю жизнь только о том и печемся, только тем и озабочены, чтобы обмануть свою совесть, чтобы ухитриться доставить ей хоть маленькую радость. Бесполезные мы существа, я и мне подобные; кроме редких хороших часов, мы всегда уязвлены и пришиблены сознанием собственной бесполезности. Мы презираем полезное, мы знаем, что оно безобразно и низко, и отстаиваем эту истину так, как отстаивают лишь насущно необходимые истины. И тем не менее мы вконец истерзаны муками совести. Мало того, вся наша внутренняя жизнь, наше мировоззрение, наша манера работать… таковы, что они воздействуют на наш организм самым нездоровым, самым губительным и разрушительным образом, и это еще ухудшает положение. Тут-то и появляются на сцену всевозможные успокоительные средства, без которых мы бы просто не выдержали. Многие из нас, например, чувствуют потребность в упорядоченном, строго гигиеническом образе жизни. Ранний, немилосердно ранний подъем, холодная ванна, прогулка по снегу… Благодаря этому мы хоть немножко бываем довольны собой. А дай я себе волю, я бы, поверьте, полдня пролежал в постели. Если я рано встаю, то это, собственно, лицемерие.
– Нет, отчего же, господин Шпинель? Я нахожу, что это сила воли… Не правда ли, госпожа советница?
Госпожа советница согласилась, что это сила воли.
– Лицемерие или сила воли, сударыня! Кому какое слово больше нравится. Я лично на все смотрю настолько грустно, что…
– Вот именно. Ну, конечно же, вы слишком много грустите.
– Да, сударыня, мне часто бывает грустно.
Дни стояли прекрасные. В ослепительной яркости морозного безветрия, в голубоватых тенях, ясные и чистые, белели земля, горы, дом и сад, и надо всем этим поднимался безоблачный свод нежно-голубого неба, в котором, казалось, пляшут мириады сверкающих пылинок и блестящих кристаллов. Супруга господина Клетериана чувствовала себя в эти дни сносно; жара у нее не было, она почти не кашляла и ела без особого отвращения. Целыми часами, как ей было предписано, сидела она на террасе в морозную солнечную погоду. Сидела среди снегов, закутанная в одеяла и меха, и с надеждой вдыхала чистый, ледяной воздух, полезный для ее дыхательного горла. Иногда она видела, как прохаживается по саду господин Шпинель, тоже тепло одетый, в меховых сапогах, придававших уже просто фантастические размеры его ногам. Он осторожно ступал по снегу, и в положении его рук была какая-то настороженность, какое-то застывшее изящество; подходя к террасе, он почтительно здоровался с госпожой Клетериан и поднимался на несколько ступенек, чтобы завязать разговор.
– Сегодня во время утренней прогулки я видел красивую женщину… Боже мой, как она была хороша! – говорил он, наклонив голову к плечу и растопырив руки.
– В самом деле, господин Шпинель? Опишите же мне ее!
– Нет, не могу. Если б я это сделал, я бы дал вам о ней неверное представление. Проходя мимо этой дамы, я едва успел окинуть ее взглядом, по-настоящему я ее не видел. Но смутной тени, мелькнувшей передо мной, было достаточно, чтобы разбудить мое воображение, и я унес с собою прекрасный образ… Боже, какой прекрасный!
Она засмеялась:
– Вы всегда так смотрите на красивых женщин, господин Шпинель?
– Да, сударыня; и это лучше, чем глазеть грубо и жизнежадно и уносить с собой воспоминание о несовершенной действительности.
– Жизнежадно… Вот так слово! Настоящее писательское слово, господин Шпинель! Но, знаете, оно мне запомнится. Я его немного понимаю, в нем есть что-то независимое и свободное, какое-то неуважение к жизни, хотя жизнь – это самая почтенная вещь на свете, это сама почтенность… И мне становится ясно, что, кроме осязаемых вещей, существует нечто более нежное…
– Я знаю только одно лицо, – сказал он вдруг необычайно радостным и растроганным голосом, высоко подняв сжатые в кулаки руки и обнажив гнилые зубы в восторженной улыбке. – Я знаю только одно лицо, которое так благородно в жизни, что кощунственно было бы исправлять его воображением. Я бы глядел на него, я бы любовался им не отрываясь, не минутами, не часами, а всю жизнь, я бы весь растворился в нем и забыл все земное…
– Да, да, господин Шпинель. Но все же уши у фройляйн фон Остерло немного торчат…
Он умолк и низко опустил голову. Когда он снова выпрямился, глаза его со смущеньем и болью глядели на маленькую, странную жилку, бледно-голубое разветвление которой болезненно нарушало ясность почти прозрачного лба.
Чудак, поразительный чудак! Супруга господина Клетериана иногда думала о нем, потому что у нее было много времени для раздумья. То ли перестала действовать перемена климата, то ли появилось какое-то новое вредное влияние, – но здоровье ее ухудшилось, состояние дыхательного горла оставляло желать лучшего, она чувствовала себя слабой, усталой, аппетит пропал, ее часто лихорадило; доктор Леандер самым решительным образом велел ей соблюдать полный покой и не волноваться. И вот она если не лежала, то сидела в обществе советницы Шпатц, молчала и, праздно положив рукоделье на колени, тешила себя разными мыслями.
Да, он заставлял ее задумываться, этот чудаковатый господин Шпинель, и странно – не столько о нем, сколько о себе самой; каким-то образом он вызвал в ней странное любопытство, неизвестный ей дотоле интерес к самой себе. Однажды, среди разговора, он сказал: «Загадочное все-таки существо женщина… как это ни старо, все равно останавливаешься перед ним и только диву даешься. Вот перед тобой чудесное создание, нимфа, цветок благоуханный, не существо, а мечта. И что же она делает? Идет и отдается ярмарочному силачу или мяснику. Потом является под руку с ним или даже склонив голову на его плечо и глядит на всех с лукавой улыбкой, словно говоря: «Пожалуйста, удивляйтесь, ломайте себе головы!» Вот мы их себе и ломаем.
К этим словам не раз возвращались мысли супруги господина Клетериана.
В другой раз, к удивлению советницы Шпатц, между ними произошел следующий разговор:
– Позвольте вас спросить, сударыня (может быть, это нескромно), как вас зовут, как, собственно, ваша фамилия?
– Вы же знаете, что моя фамилия Клетериан, господин Шпинель!
– Гм… Это я знаю. Вернее – я это отрицаю. Я имею в виду вашу собственную, вашу девичью фамилию. Будьте справедливы, сударыня, и согласитесь, что тот, кто называет вас «госпожа Клетериан», заслуживает, чтобы его высекли.
Она так искренне рассмеялась, что голубая жилка до ужаса отчетливо выступила у нее над бровью, придав ее нежному и милому лицу напряженное, болезненное выражение.
– Смилуйтесь, господин Шпинель! Высечь! Да неужели «Клетериан» такая гадкая фамилия?
– Да, сударыня, я от всего сердца возненавидел эту фамилию, как только услышал ее. Она смешная, можно прийти в отчаяние от ее безобразия, и это просто варварство и пошлость – в угоду обычаю называть вас по фамилии мужа.
– Ну, а Экгоф? Разве Экгоф красивее? Фамилия моего отца Экгоф!
– А, вот видите! Экгоф – это уже совсем другое дело. Даже один большой актер носил фамилию Экгоф. С этой фамилией я помирюсь. Вы упомянули только об отце. Разве ваша матушка…
– Да, моя мать умерла, когда я была еще маленькой.
– Ах вот как. Расскажите же мне немного больше о себе, прошу вас. Но если это вас утомляет, не надо. Тогда – лучше молчите, а я буду опять рассказывать вам о Париже, как в тот раз. Но вы могли бы говорить совсем тихо. Право, если вы будете говорить шепотом, то от этого ваш рассказ станет только прекраснее… Вы родились в Бремене? – Этот вопрос он задал почти беззвучно, с благоговейным и значительным выражением, как будто Бремен – город, не имеющий себе равных, город неописуемых приключений и скрытых красот, родиться в котором – значит быть отмеченным таинственной благодатью.
– Да, представьте себе! – невольно сказала она. – Я из Бремена.
– Я был там однажды, – произнес он задумчиво.
– Боже мой, вы и там были? Вы, господин Шпинель, по-моему, видели все, от Туниса до Шпицбергена.
– Да, я был там однажды, – повторил он. – Всего несколько часов, вечером. Я помню старинную узкую улицу, над ее островерхими крышами косо и странно висела луна. Потом я был еще в погребке, где пахло вином и гнилью. Это такие волнующие воспоминания…
– В самом деле? Где же это могло быть? Да, я тоже родилась в таком вот сером доме с островерхой крышей, в старом купеческом доме с гулкими полами и побеленной галереей.
– Ваш батюшка, стало быть, купец? – спросил он, помедлив.
– Да. Но прежде всего он артист.
– Ах вот оно что! Какому же искусству посвятил себя ваш батюшка?
– Он играет на скрипке… Но это пустые слова. Важно, как он играет, господин Шпинель! От его игры у меня временами навертывались на глаза жгучие слезы, каких я никогда в жизни не знала. Вы не поверите…
– Я верю! Ах, верю ли я… Скажите мне, сударыня, семья ваша, конечно, старинная? Должно быть, уже не одно поколение жило, работало и ушло в лучший мир в этом сером доме с островерхой крышей?
– Да… Почему, собственно, вы об этом спрашиваете?