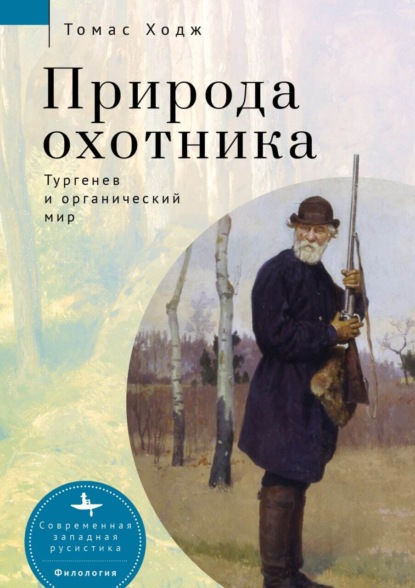По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Природа охотника. Тургенев и органический мир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В первой половине 1820-х годов это учение оказало сильнейшее влияние на «Общество любомудрия» и стало для него источником вдохновения. Председателем «Общества» был князь В. Ф. Одоевский, лично знакомый с Шеллингом, секретарем же – поэт Д. В. Веневитинов. Исайя Берлин писал, что Шеллинг «положил основу чисто романтическому представлению о том, что поэты и живописцы способны понимать дух века глубже, а выражать его ярче и памятнее, чем академически настроенные историки» [Берлин 2017: 243].
В 1833–1834 годах, будучи студентом Московского университета, Тургенев с жадностью слушал лекции Павлова, как он пишет в своей автобиографии, «последователя шеллинговской философии, читавшего по ней физику» [Тургенев 1978а, 11: 203]. Во время учебы в Берлинском университете с 1838 по 1841 год Тургенев и его друзья, среди которых были М. А. Бакунин и Н. В. Станкевич, много читали и обсуждали Шеллинга. Через семь лет Тургенев напишет, что в 1840 году они, студенты, «с волненьем ожидали Шеллинга» [Тургенев 1978а, 1: 291]. Но уже скоро он начал смотреть на взгляды своего недавнего кумира с долей иронии, отмечая в 1847 году коренные изменения в философской моде и констатируя, что в Берлине философа уже позабыли [Тургенев 1978а, 1: 291]. Рассуждая о приверженности заглавного героя рассказа «Яков Пасынков» (1855) немецкому романтическому идеализму, Тургенев пишет, что «романтики теперь, как уж известно, почти вывелись» [Тургенев 1978а, 5: 60], в конце же 1850-х годов Шеллинг фигурирует в романе «Накануне» (1859) уже как малопонятный и устаревший пережиток прошлого[15 - В романе «Накануне» отец Берсенева был автором неопубликованного трактата о «“Преступлениях или прообразованиях духа в мире”, сочинения, в котором шеллингианизм, сведенборгианизм и республиканизм смешались самым оригинальным образом» [Тургенев 1978а, 6: 198]. Когда Берсенев начинает объяснять причины своего пристального интереса к Шеллингу Елене Стаховой, художник Шубин перебивает его: «Ради самого Бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!» [Тургенев 1978а, 6: 175].]. Тени шеллинговского восприятия природы и роли художника тем не менее остаются заметны на протяжении всего творческого пути Тургенева. Например, один из героев «Рудина» (1855) Лежнев описывает, как он в юности ходил по ночам обнимать в саду дерево [Тургенев 1978а, 5: 259], а лирический герой стихотворения в прозе «Собака» (1878) размышляет над общностью человека и животного:
Я понимаю, что в это мгновенье и в ней [собаке] и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тожественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. <…> Нет! это не животное и не человек меняются взглядами… Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. И в каждой из этих пар, в животном и в человеке – одна и та же жизнь жмется пугливо к другой [Тургенев 1978а, 10: 129–130].
Шеллингианское образование, несомненно, сыграло определенную роль в том, насколько ярко в творчестве Тургенева, одного из наиболее видных русских собаководов XIX века, выписаны персонажи-собаки и раскрыта тема собак в целом[16 - Подробный обзор собачьей темы в творчестве Тургенева см. в [Briggs 1993].].
Восхищение Тургенева творчеством Гёте было глубоким, безоговорочным и непреходящим [Kagan-Kans 1972: 384]. Его впечатления от «Фауста», например, нашли отражение в большой обзорной статье (1844–1845) [Тургенев 1978а, 1:197–235], рассказе «Фауст» (1856) [Тургенев 1978а, 5: 90-129] и многочисленных письмах. В Берлине Тургенев имел продолжительные беседы с подругой Гёте Беттиной фон Арним; кроме того, произведения и философия немецкого мастера в то время горячо обсуждались в среде русских студентов, обучавшихся за рубежом. Как убедительно показал Петер Тирген, Гёте, взгляды которого представляли собой нечто вроде протоламаркианского эволюционизма, бросил вызов типичному для XVIII века восприятию природы как хорошо организованного Эдема и неизменно изображал беспощадную ненасытность (в «Страданиях молодого Вертера», 1774–1787) или безразличие (в «Избирательном сродстве», 1808–1809) постоянно меняющегося мира природы. Впоследствии подобную точку зрения с готовностью переняли такие авторы, как Новалис и Гейне [Thiergen 2000: 261–263][17 - См. также [Carus 1907].].
Наиболее важным связанным с Гёте источником для изучения тургеневской философии природы является рапсодическое эссе «Природа» («Die Natur», 1782–1783), в котором формулируются концепты, повторяющиеся и преобразовывающиеся во многих изображениях природного мира, принадлежащих перу самого Тургенева[18 - Хотя во времена Тургенева считалось, что эссе было написано самим Гёте, в академических кругах не раз поднималась проблема авторства «Die Natur», и большинство сегодняшних ученых приписывают его Георгу Кристофу Тоблеру (1757–1812). Однако Гёте несомненно полагал, что эссе отражает его собственные воззрения; см. примеч. 93 в [Richards 2008:111]. Вероятнее всего, основные наблюдения из «Die Natur» берут свое начало в орфических гимнах, откуда они были заимствованы Энтони Эшли-Купером, 3-м графом Шефтсбери, и уже через его сочинения дошли до Гёте; см. [Kistler 1954; Fullenwider 1986].]. В кратком ряду парадоксальных афоризмов Природа изображается в эссе как всеохватная, несущая материнское начало, подобная женскому божеству фигура:
Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. <…> Она творит вечно новые образы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет; всё ново, – а всё только старое. <…> Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. <…> Кажется, всё основывает она на личности, но ей дела нет до лиц. Она вечно творит и вечно разрушает, но мастерская ее недоступна. Она вся в своих чадах, а сама матерь <…> единственный художник: из простейшего вещества творит она противоположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим совершенством. <…> Она беспрерывно думала и мыслит постоянно – но не как человек, а как природа. У ней свой собственный, всеобъемлющий смысл, но никто его не подметит. <…> Она сурова и кротка, любит и ужасает, немощна и всемогуща[19 - Цит. по: [Герцен 1954–1965, 3: 138–140].].
Предвосхищая виталистические взгляды Шеллинга, Гёте предполагает, что природа обладает мышлением и чувствами. Все виды животных и растений – дети одной великой матери, а потому они сходны друг с другом, как бывают сходны братья и сестры, и все являют собой лишь разновидности единых совершенных прообразов животного (Urtier) и растения (Urpflanze)[20 - См. [Wells 1967:538].]. Поэтому человек един с природой и (в отличие от шеллинговской концепции) не занимает в ней какого-то более высокого положения. Напротив, природа безразлична к индивидуумам, включая людей, и может быть как безжалостно разрушительна, так и безжалостно созидательна[21 - М. М. Одесская высказала предположение, что некоторые идеи французского натуралиста Жоржа-Луи Леклерка, графа де Бюффона (1707–1788), могли предвосхитить гётеанский концепт равнодушия природы или даже повлиять на него; см. [Одесская 2000: 199–200].]. В заключительном абзаце «Die Natur» повествователь жаждет взаимности со стороны природы: «Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяю ей. Пусть она делает со мной что хочет. Она не возненавидит своего творения» (курсив мой. – Т X.) [Герцен 1954–1965, 3: 141].
Представляется возможным утверждать, что из всей совокупности размышлений Гёте и Шеллинга о мире природы Тургенев усвоил ряд идей, сформировавших основу его собственных произведений о природе: для мира природы характерно единство и монистичность, а следовательно, человечество является его неотъемлемой частью. Роберт Л. Джексон раскрывает эту мысль так: «Взгляд Тургенева на мир – это архетипическое видение грандиозного единства, целостности и органического характера, который носят природа и важнейшие жизненные процессы» [Jackson 1993:164]. Природа – живое существо, мыслящее и чувствующее и в то же время безжалостное и немое перед общностью организмов, составляющих ее. Она бесконечно плодородна, прекрасна, притягательна, загадочна и обладает творческим или даже художественным началом[22 - Подробнее о натурфилософии Шеллинга и Гёте см. в [Sloan 2001: 252–254].].
Но из всех свойств природы именно ее безразличие больше всего не давало покоя Тургеневу. Всю его жизнь утешительное «она не возненавидит своего творения» подавлялось собственным неумолимым выводом о том, что она в равной степени никоим образом не обязана и любить свое творение. Произведения Тургенева пронизаны прокаталепсисом, что совершенно неудивительно для его идеологически поляризованной эпохи; характерен он и для тургеневского образного представления о побуждениях природы. Размышляя о ней, он часто как бы задается вопросами: «Как именно она не будет обращать на меня внимание? Из-за чего она покинет меня?» И эти вопросы роднят его со своими столь многочисленными несчастными героями-мужчинами в моменты, когда они думают о женщинах, находясь на грани того, чтобы никогда не обрести или потерять счастье взаимного чувства. М. М. Одесская отмечает, что мотив безразличия природы «оставался едва ли не ведущим на протяжении всего творчества Тургенева» [Одесская 2000: 201].
Именно поэтому для наглядности стоило собрать в одном месте все высказывания Тургенева о безразличии природы, что и было сделано в данной книге в приложении 1. Анализируя эти мысли, приходившие ему в голову на протяжении почти пяти десятков лет, мы можем увидеть четкие структуры, носящие недвусмысленный отпечаток Шеллинга и Гёте. В высказываниях Тургенева, сделанных им как в художественных произведениях, так и в письмах, природа предстает прекрасной, величественной, немой, глухой, спокойной, несущей материнское начало, безжалостной, поглощающей, внеэтической, непреклонной, вечной. Целых два раза в заключительных пассажах своих наиболее важных работ – «Дневника лишнего человека» (1850) и «Отцов и детей» (1860–1861) – он завершает текст, цитируя последнюю строфу пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829), где лирический герой размышляет о человеческой смертности и неизбежности смены поколений:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять
[Пушкин 1977–1979, 3: 130].
Как видно из приложения 1, Тургенев даже решил сымитировать это четверостишие в собственном стихотворении «Синица» (1863), а также цитировал пушкинское «равнодушная природа» в двух письмах: первый раз – шутя, в письме к А. А. Фету (1860), а второй раз – абсолютно серьезно, будучи уже смертельно больным, в письме к Ж. А. Полонской (1882).
Если Пушкин ввел в высокую русскую культуру представление о равнодушной природе, то развил его во второй половине 1840-х годов как ключевое для русского контекста социополитическое понятие Герцен. Герцен написал второе из своих «Писем об изучении природы» (1844–1846) в августе 1844 года и опубликовал его в апрельской книжке «Отечественных записок» за 1845 год. Считая, как и Тургенев, своим учителем Гёте, он даже присовокупил к «Письму второму» собственный перевод «Die Natur» на русский язык. В основном тексте письма Герцен представляет природу «гармоническим целым, организмом, имеющим единство», чьи составляющие «носят в себе характер независимой самобытности от человека; они были, когда его не было; им нет до него дела, когда он явился; они без конца, без пределов; они беспрестанно и везде возникают, появляются, пропадают» [Герцен 1954–1965, 3: 130–131]. Похожую мысль высказывает и герценовский повествователь в романе «Кто виноват?» (1846): «Давно замечено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна к тому, что делают люди на ее спине» [Герцен 1954–1965, 4: 169]
.
В 1847–1848 годах Герцен несколько раз обращается к теме природы и ее безразличия по отношению к человечеству в ряде статей, вошедших в книгу «С того берега». Первый раз в статье «Перед грозой»:
Жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами. <…>
В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможностей; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, они развиваются и будут развиваться донельзя. <…> В сущности, для природы это всё равно, ее не убудет, из нее ничего не вынешь, всё в ней, как ни меняй, – и она с величайшей любовью, похоронивши род человеческий, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною – вероятно, еще с какими-нибудь усовершениями, взятыми из новой среды и из новых условий [Герцен 1954–1965, 6: 24, 37][23 - См. [Thiergen 2007: 271].]
.
Далее в книге бесстрастная сущность природного равновесия предстает в терминах статистики: «Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут на питание одной трети, лишь бы они развивались» [Герцен 1954–1965, 6: 56].
Неудивительно и то, что Герцен, ярый поборник отмены крепостного права, подчеркивает различие между противоестественной, с его точки зрения, склонностью человека порабощать и естественными отношениями хищника и жертвы:
Волк ест овцу, потому что голоден и потому что она слабее его, но рабства от нее не требует, овца не покоряется ему, она протестует криком, бегом; человек вносит в дико-независимый и самобытный мир животных элемент верноподданничества, элемент Калибана, на нем только и было возможно развитие Проспера; и тут опять та же беспощадная экономия природы, ее рассчитанность средств, которая, ежели где перейдет, то наверное не дойдет где-нибудь и, вытянувши в непомерную вышину передние ноги и шею камелеопардала, губит его задние ноги [Герцен 1954–1965, 6:99-100].
В этом отрывке равновесие природы привязано к ее же равнодушию, являющемуся противоположностью человеческой жажды доминировать как над людьми, так и над другими живыми существами[25 - Как мы увидим в главе четвертой, заветы Герцена, сформулированные в «Письмах об изучении природы» и «С того берега», сильно повлияли на собственные размышления Тургенева об устройстве природного мира.]. Уже в 1860 году Герцен мог написать: «Стихиям, веществу всё равно. <…> Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, религиозный поклеп на нее; она не настолько умна, чтоб бороться, ей всё равно» [Герцен 1954–1965, 11: 246–247].
Герцен познакомился с Тургеневым в Москве в феврале 1844 года, сблизились же они в Париже, регулярно видясь с весны 1848 года по май 1849 года[26 - См. [Schapiro 1982: 31; Герцен 1954–1965, 22: 176; Kelly 2016: 412; Летопись 1995: 138–146]. О сходстве взглядов Тургенева и Герцена на природу см. [Курляндская 1971: 50].]. В этот необычайный переломный момент – когда Европу накрыла революционная волна «Весны народов», Тургенев работал над рассказами, которые составят «Записки охотника», а Герцен писал статьи для книги «С того берега» – двое писателей, несомненно, обсуждали свои представления о природе, имевшие еще и до их личной встречи много общего. Трудно дать точную характеристику их взаимовлиянию, но вполне возможно, что именно решительная интонация Герцена придала форму словам Тургенева о «жестоком равнодушии природы» [Тургенев 19786, 1: 406], адресованным Полине Виардо летом 1849 года:
Эта штука – равнодушная, властная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа, это Бог; называйте ее как хотите, но не поклоняйтесь ей. Прошу понять меня: когда она прекрасна или когда она добра (а это не всегда с нею случается) – поклоняйтесь ей за ее красоту, за доброту, но не поклоняйтесь ей ни за ее величие, ни за ее славу! [Тургенев 19786, 1: 425].
Очень показательно, что Тургенев упоминает красоту и поклонение – понятия чужеродные для скорее научных герценовских формулировок. Надо сказать, что Тургенев вообще часто изображал мир природы в виде прекрасной, таинственной, женственной, богоподобной персоны. В этом вновь ощущается шеллингианское представление о единстве природы с Абсолютом, возможно, даже Богом. В «Поездке в Полесье» (1850–1857), например, Тургенев описывает отношение природы к человеку как «холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды» [Тургенев 1978а, 5: 130]. Это стремление к обожествлению проявилось в наиболее чистой форме, когда он уже приближался к концу своего жизненного пути, в стихотворении в прозе «Природа», написанном в 1879 году. Это короткое произведение представляет собой аллегорический сон, в котором величавая женщина в одежде зеленого цвета, погруженная в глубокую думу, олицетворяет мир природы. Вторя образам матери и ребенка из «Die Natur», повествователь обращается к ней: «О наша общая мать!» – и спрашивает, не о будущих ли судьбах человечества она размышляет. В ответ же эта богоподобная фигура говорит, снижая пафос повествования, что думает о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы восстановить равновесие нападения и отпора. На вопрос же ошарашенного рассказчика: «Но разве мы, люди, не любимые твои дети?» – Природа отвечает: «Все твари мои дети <…> и я одинаково о них забочусь – и одинаково их истребляю. <…> Я не ведаю ни добра, ни зла… <…> Я тебе дала жизнь – я ее отниму и дам другим, червям или людям… мне всё равно…» [Тургенев 1978а, 10: 164–165]. Ключевая идея, выразительно повторяющая «Die Natur», предельно ясна: важнейшей целью природы является равновесие, которого она может достичь лишь через абсолютное равнодушие.
Русские критики убедительно доказали связь «Природы» Тургенева с «Разговором Природы с Исландцем» Джакомо Леопарди (из его «Нравственных очерков»), написанным в мае 1824 года и опубликованным три года спустя. В диалоге Леопарди Исландец оказывается в глубине Африканского материка, куда не проникал ни один человек, и там ему встречается гигантская, прекрасная и вместе с тем грозная женщина, которая утверждает, что она – сама Природа. Отчаянно пытающийся убежать от страданий Исландец заключает, что природа – явный враг всех живых существ, включая человека, на что богоподобная фигура отвечает:
Уж не вообразил ли ты, будто мир создан ради вас? Знай же, что, творя, устанавливая порядок и вообще что-либо совершая, я почти всегда имела и имею в виду нечто иное, нежели счастье или несчастье людей. Когда я каким-либо образом или действием причиняю вам зло, я этого не замечаю, за редчайшими исключениями; и точно так же, если я порою даю вам наслаждение или благодетельствую, я обыкновенно даже не знаю об этом; я никогда не делала и не делаю ничего, имея в виду, как вы мните, доставить вам радость и угодить вам. И наконец, если бы даже мне случилось истребить весь ваш род, я бы этого и не заметила. <…> Мне кажется, ты не обратил должного внимания на то, что жизнь этого мира есть вечный круговорот рождения и уничтожения, связанных между собой так, что одно непрестанно служит другому, и оба вместе – сохранению самого мира, который распался бы, если бы прекратилось или одно, или другое. Потому было бы миру во вред, если бы хоть что-нибудь в нем оказалось свободно от страданий [Леопарди 1978: 109–111].
Леопарди приводит сразу две возможные концовки этой истории. Два истощенных льва съели разговорчивого Исландца, что дало им силы прожить еще несколько дней. Или же, как вариант, «поднялся жесточайший ветер, который простер его на земле, а над ним воздвиг горделивый мавзолей из песка, под коим Исландец, на славу высушенный и превращенный в превосходную мумию, был обнаружен некими путешественниками и помещен в музей в одном из городов Европы» [Леопарди 1978: 111].
Для Тургенева, равно как и для Леопарди, глупый самообман – верить в то, что Природа антропоморфна и потому обладает состраданием и моралью, потому что она – несмотря на древнюю традицию ее персонификации – нечто неодушевленное, бесчувственная совокупность видов и явлений. Поэтому тот факт, что рассказчик Тургенева и Исландец Леопарди представляют себе Природу в виде женщины, абсурден, но при этом оба писателя не смогли устоять перед соблазном персонифицировать гётеанские абстракции с помощью диалогов между антропоморфной богиней и ее опечаленным поклонником.
Тургенев смог достичь леопардианского уровня саркастической иронии по отношению к природе, но у него была и любимая альтернатива образу богини: взаимосвязанные метафоры, основанные на жизни насекомых и изображающие зацикленное на себе хищничество на «настоящем поле брани» (yrai champ de carnage), которое он так живо обрисовал в письме к Полине Виардо от 1868 года[27 - См. [Тургенев 19786, 9: 23].]. Впервые подобный образ насекомого появляется в более раннем письме, также адресованном Виардо, от 1849 года:
…она [природа] равнодушна; – душа существует только в нас и, может быть, немного вокруг нас… это слабое сияние, которое вечная ночь неизменно стремится поглотить. Но это не мешает злодейке-природе быть восхитительно-прекрасной, и соловей может очаровывать нас и восхищать, а тем временем какое-нибудь несчастное, полураздавленное насекомое мучительно умирает у него в зобу [Тургенев 19786, 1:406–407].
Безразличная к страданию, которое она причиняет, поддерживая собственное существование, насекомоядная птица просто занята своими обычными делами, даже если дела эти – прекрасное пение. В 1859 году Тургенев дважды использовал похожий образ, но на этот раз в шутливом споре Шубина с Берсеневым в романе «Накануне» хищником стал паразит:
Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А? [Тургенев 1978а, 6: 162].
В написанной примерно тогда же статье «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев приводит еще более разительный пример: «…всё живущее считает себя центром творения и на всё остальное взирает как на существующее только для него (так комар, севший на лоб Александра Македонского, с спокойной уверенностью в своем праве, питался его кровью, как следующей ему пищей…)» [Тургенев 1978а, 5: 341]. В своей второй рецензии на охотничий труд Аксакова 1852 года Тургенев взял для иллюстрации той же самой идеи «муху, свободно перелетающую с вашего носа на кусок сахару, на каплю меда в сердце цветка» [Тургенев 1978а,4:516–517][28 - Полный текст рецензии см. в приложении 3.]. В романе «Отцы и дети» нигилист Базаров видит муравья, тащащего полумертвую муху, и обращается к нему: «Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!» [Тургенев 1978а, 7: 119]. Хищнический образ жизни, позволяющий выжить самому, окружает нас повсюду и показывает великое равнодушие природы, только, так сказать, в более мелких масштабах: равнодушие индивидуальных организмов, совершающих насилие, чтобы утолить собственные физические потребности.
Для Тургенева связанные с насекомыми метафоры могут также воплощать отчаяние, порожденное созерцанием природного равнодушия. В 1864 году он писал Валентине Делессер:
Сфинкс, – который будет всегда перед всеми возникать, смотрел на меня своими неподвижными, пустыми глазами, тем более ужасными, что они отнюдь не стремятся внушить вам страх. Мучительно не знать разгадки; еще мучительнее, быть может, признаться себе в том, что ее вообще нет, ибо и самой загадки более не существует. Мухи, без передышки бьющиеся об оконное стекло, – вот, думается, самый точный наш символ [Тургенев 19786, 6: 194].
Об охотничьем типе равновесия
Таким образом, вдумчивый наблюдатель природного мира сталкивается с проблемой. Природа восхитительно прекрасна и даже близка к божественности в своей способности вызывать благоговейный трепет и преклонение со стороны тех, кто наблюдает ее. Не желая того, она вынуждает любить себя, но при этом не любит (да и не может любить) в ответ. Вспоминается известное изречение Спинозы, игравшее столь важную роль в жизни Гёте: «Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтоб и Бог его любил» [Спиноза 2001: 314][29 - Подробнее о влиянии Спинозы на Гёте см. в [Rosenzweig 2000: 60–61].]. Почти век спустя, после Лиссабонского землетрясения 1755 года, Кант сформулирует другую мысль: «Человек должен научиться подчиняться природе, но он хочет, чтобы она подчинялась ему»[30 - «Geschichte und Naturbeschreibung der merkwurdigsten Vorfalle des Erdbebens welches an dem Ende des 1755sten Jahres einen grossen Theil der Erde erschuttert hat». Цит. no: [Buek 1907: 321].]. Что же делать такому любящему природу художнику, как Тургенев, перед лицом этой равнодушной и всемогущей богини?
В своем выдающемся эссе «Корень и цветок» (1974) Роберт Л. Джексон делает обзор эстетических взглядов Тургенева и характеризует их в следующих понятиях: единство, консервативный, центростремительный, гармония, ясность, безмятежность, беспристрастный, равнодушный, баланс, сдержанность, равновесие, покой, объективность, спокойный, мера, отчужденность, примирение, перемирие [Jackson 1993: 164–169]. Исследователь отмечает сходство между этими признаками спокойствия в произведениях Тургенева и сущностными характеристиками, которые писатель видел в самом мире природе и приходит к выводу, что,
будучи художником, он принимает Природу как проводника. Возможно, беспристрастная справедливость Природы и не сулит ничего хорошего [человеку], но эта же самая Природа становится моделью для искусства и художника в <…> своей строгости, в своем олимпийском спокойствии и объективности. <…>
Художник в полном смысле слова для Тургенева <…> это тот, кто находит природу в себе и со спокойствием и мерой, характерными для самой природы, постигает жизнь в ее основополагающих взаимоотношениях, законах и преемственностях [Jackson 1993: 167, 169].
Тургеневский идеал писателя-охотника действительно заключался в отмеченной Джексоном имитации природного баланса, но это также было и равновесие, имеющее в своей основе куда большее насилие (вспомнить хотя бы описанные выше сцены переваривания полумертвых насекомых и сосания крови), нежели подразумевал Джексон. Это, конечно, «перемирие», но происходит оно на «поле брани». Равновесие, которого достиг Тургенев, было особого, охотничьего типа, отмеченного своими внутренними противоречиями и уникальными знаниями, доступными лишь охотникам. На то, как природа служила Тургеневу «проводником» и «моделью», глубоко повлиял опыт неустанного наблюдателя, преследователя и убийцы животных. Более того, вполне возможно, что именно этот опыт и побудил его принять беспристрастное равнодушие природы. Любовь Тургенева к охоте, начавшаяся еще в раннем отрочестве и ставшая уже во взрослом возрасте поводом для серьезных размышлений, привнесла в его жизнь такую физическую деятельность и такие привычки к наблюдению, которые на протяжении всех последующих лет оказывали влияние на его эстетику. Изучая его охотничью жизнь, составлявшие ее элементы и значение, которое он стремился ей придать, мы приближаемся к главному источнику художественных склонностей Тургенева, его постоянных литературных проектов и его философии.
В глазах Тургенева охотники отличались от всех прочих наблюдателей природы. Сам глубоко чувствуя природную красоту, он разделял отвращение Аксакова к романтической моде на преклонение перед природными пейзажами, которая оказывала дурную услугу охотничьему искусству и оскверняла почти религиозное преклонение перед миром природы, характерное для многих охотников. Аксаков писал:
Конечно, не найдется почти ни одного человека, который был бы совершенно равнодушен к так называемым красотам природы, то есть: к прекрасному местоположению, живописному далекому виду, великолепному восходу или закату солнца, к светлой месячной ночи; но это еще не любовь к природе; это любовь к ландшафту, декорациям, к призматическим преломлениям света <…>. Для [подобных людей в открывающихся перед охотниками пейзажах] нет красот природы <…>. Их любовь к природе внешняя, наглядная, они любят картинки, и то ненадолго [Аксаков 1955–1956, 4: 10][31 - Мнение Аксакова поразительно совпадает с мнением Генри Дэвида Торо, высказанным примерно в то же время: «Угрюмость, с которой дровосек рассказывает о своих лесах, относясь к ним с тем же равнодушием, с каким он относится к своему топору, лучше, чем сладкоречивый энтузиазм любителя природы» (написано в 1845–1847 годах) [Thoreau 1849: 112–113].].
В своей ранней повести «Бретер» (1846) Тургенев вкладывает аналогичное отношение в светскую болтовню добродушного, но поверхностного романтика Кистера: «“Я здесь нашел такое приятное общество… а природа!..” – Кистер пустился в описание природы» [Тургенев 1978а, 4: 42]. Василий Васильич, заглавный герой «Гамлета Щигровского уезда», говорит рассказчику «Записок охотника»: «Кажется <…> я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее». На что рассказчик-охотник с облегчением соглашается: «Можете, можете» [Тургенев 1978а, 3:265–266].
Наблюдать за природой лишь для получения удовольствия недостаточно. На охоту отправляются вовсе не потому, что следуют некоему плану маршрута, навязанному поверхностными представлениями о красоте. В мировоззрении Аксакова и Тургенева (хотя для охотников из их произведений это и не всегда так) целью является добыча, а не пейзаж. Долгие и частые пребывания любителей охоты на природе второстепенны по отношению к их задаче, состоящей в убийстве птиц и зверей, и, по мнению Юлиана Шмидта, стремясь к ее достижению, охотники становятся открытыми и внимательными ко всем явлениям природы, которые они могут встретить. При этом даже охотники, никак не связанные с традиционной литературной деятельностью, всё равно описывают то, что они видят и делают под открытым небом: рассказывают охотничьи истории у костра, составляют скрупулезные списки добычи, делятся подробностями походов в переписке с товарищами. Эндрю Дуркин так резюмирует данное Аксаковым в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» изображение охотника как внимательной и интегрированной составляющей органического мира: «Охота продолжает существовать как средство прямого участия в жизни природы, понимаемой как сложная система знаков, которые необходимо научиться интерпретировать и контролировать посредством наблюдательности
В 1833–1834 годах, будучи студентом Московского университета, Тургенев с жадностью слушал лекции Павлова, как он пишет в своей автобиографии, «последователя шеллинговской философии, читавшего по ней физику» [Тургенев 1978а, 11: 203]. Во время учебы в Берлинском университете с 1838 по 1841 год Тургенев и его друзья, среди которых были М. А. Бакунин и Н. В. Станкевич, много читали и обсуждали Шеллинга. Через семь лет Тургенев напишет, что в 1840 году они, студенты, «с волненьем ожидали Шеллинга» [Тургенев 1978а, 1: 291]. Но уже скоро он начал смотреть на взгляды своего недавнего кумира с долей иронии, отмечая в 1847 году коренные изменения в философской моде и констатируя, что в Берлине философа уже позабыли [Тургенев 1978а, 1: 291]. Рассуждая о приверженности заглавного героя рассказа «Яков Пасынков» (1855) немецкому романтическому идеализму, Тургенев пишет, что «романтики теперь, как уж известно, почти вывелись» [Тургенев 1978а, 5: 60], в конце же 1850-х годов Шеллинг фигурирует в романе «Накануне» (1859) уже как малопонятный и устаревший пережиток прошлого[15 - В романе «Накануне» отец Берсенева был автором неопубликованного трактата о «“Преступлениях или прообразованиях духа в мире”, сочинения, в котором шеллингианизм, сведенборгианизм и республиканизм смешались самым оригинальным образом» [Тургенев 1978а, 6: 198]. Когда Берсенев начинает объяснять причины своего пристального интереса к Шеллингу Елене Стаховой, художник Шубин перебивает его: «Ради самого Бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!» [Тургенев 1978а, 6: 175].]. Тени шеллинговского восприятия природы и роли художника тем не менее остаются заметны на протяжении всего творческого пути Тургенева. Например, один из героев «Рудина» (1855) Лежнев описывает, как он в юности ходил по ночам обнимать в саду дерево [Тургенев 1978а, 5: 259], а лирический герой стихотворения в прозе «Собака» (1878) размышляет над общностью человека и животного:
Я понимаю, что в это мгновенье и в ней [собаке] и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тожественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. <…> Нет! это не животное и не человек меняются взглядами… Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. И в каждой из этих пар, в животном и в человеке – одна и та же жизнь жмется пугливо к другой [Тургенев 1978а, 10: 129–130].
Шеллингианское образование, несомненно, сыграло определенную роль в том, насколько ярко в творчестве Тургенева, одного из наиболее видных русских собаководов XIX века, выписаны персонажи-собаки и раскрыта тема собак в целом[16 - Подробный обзор собачьей темы в творчестве Тургенева см. в [Briggs 1993].].
Восхищение Тургенева творчеством Гёте было глубоким, безоговорочным и непреходящим [Kagan-Kans 1972: 384]. Его впечатления от «Фауста», например, нашли отражение в большой обзорной статье (1844–1845) [Тургенев 1978а, 1:197–235], рассказе «Фауст» (1856) [Тургенев 1978а, 5: 90-129] и многочисленных письмах. В Берлине Тургенев имел продолжительные беседы с подругой Гёте Беттиной фон Арним; кроме того, произведения и философия немецкого мастера в то время горячо обсуждались в среде русских студентов, обучавшихся за рубежом. Как убедительно показал Петер Тирген, Гёте, взгляды которого представляли собой нечто вроде протоламаркианского эволюционизма, бросил вызов типичному для XVIII века восприятию природы как хорошо организованного Эдема и неизменно изображал беспощадную ненасытность (в «Страданиях молодого Вертера», 1774–1787) или безразличие (в «Избирательном сродстве», 1808–1809) постоянно меняющегося мира природы. Впоследствии подобную точку зрения с готовностью переняли такие авторы, как Новалис и Гейне [Thiergen 2000: 261–263][17 - См. также [Carus 1907].].
Наиболее важным связанным с Гёте источником для изучения тургеневской философии природы является рапсодическое эссе «Природа» («Die Natur», 1782–1783), в котором формулируются концепты, повторяющиеся и преобразовывающиеся во многих изображениях природного мира, принадлежащих перу самого Тургенева[18 - Хотя во времена Тургенева считалось, что эссе было написано самим Гёте, в академических кругах не раз поднималась проблема авторства «Die Natur», и большинство сегодняшних ученых приписывают его Георгу Кристофу Тоблеру (1757–1812). Однако Гёте несомненно полагал, что эссе отражает его собственные воззрения; см. примеч. 93 в [Richards 2008:111]. Вероятнее всего, основные наблюдения из «Die Natur» берут свое начало в орфических гимнах, откуда они были заимствованы Энтони Эшли-Купером, 3-м графом Шефтсбери, и уже через его сочинения дошли до Гёте; см. [Kistler 1954; Fullenwider 1986].]. В кратком ряду парадоксальных афоризмов Природа изображается в эссе как всеохватная, несущая материнское начало, подобная женскому божеству фигура:
Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. <…> Она творит вечно новые образы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет; всё ново, – а всё только старое. <…> Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. <…> Кажется, всё основывает она на личности, но ей дела нет до лиц. Она вечно творит и вечно разрушает, но мастерская ее недоступна. Она вся в своих чадах, а сама матерь <…> единственный художник: из простейшего вещества творит она противоположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим совершенством. <…> Она беспрерывно думала и мыслит постоянно – но не как человек, а как природа. У ней свой собственный, всеобъемлющий смысл, но никто его не подметит. <…> Она сурова и кротка, любит и ужасает, немощна и всемогуща[19 - Цит. по: [Герцен 1954–1965, 3: 138–140].].
Предвосхищая виталистические взгляды Шеллинга, Гёте предполагает, что природа обладает мышлением и чувствами. Все виды животных и растений – дети одной великой матери, а потому они сходны друг с другом, как бывают сходны братья и сестры, и все являют собой лишь разновидности единых совершенных прообразов животного (Urtier) и растения (Urpflanze)[20 - См. [Wells 1967:538].]. Поэтому человек един с природой и (в отличие от шеллинговской концепции) не занимает в ней какого-то более высокого положения. Напротив, природа безразлична к индивидуумам, включая людей, и может быть как безжалостно разрушительна, так и безжалостно созидательна[21 - М. М. Одесская высказала предположение, что некоторые идеи французского натуралиста Жоржа-Луи Леклерка, графа де Бюффона (1707–1788), могли предвосхитить гётеанский концепт равнодушия природы или даже повлиять на него; см. [Одесская 2000: 199–200].]. В заключительном абзаце «Die Natur» повествователь жаждет взаимности со стороны природы: «Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяю ей. Пусть она делает со мной что хочет. Она не возненавидит своего творения» (курсив мой. – Т X.) [Герцен 1954–1965, 3: 141].
Представляется возможным утверждать, что из всей совокупности размышлений Гёте и Шеллинга о мире природы Тургенев усвоил ряд идей, сформировавших основу его собственных произведений о природе: для мира природы характерно единство и монистичность, а следовательно, человечество является его неотъемлемой частью. Роберт Л. Джексон раскрывает эту мысль так: «Взгляд Тургенева на мир – это архетипическое видение грандиозного единства, целостности и органического характера, который носят природа и важнейшие жизненные процессы» [Jackson 1993:164]. Природа – живое существо, мыслящее и чувствующее и в то же время безжалостное и немое перед общностью организмов, составляющих ее. Она бесконечно плодородна, прекрасна, притягательна, загадочна и обладает творческим или даже художественным началом[22 - Подробнее о натурфилософии Шеллинга и Гёте см. в [Sloan 2001: 252–254].].
Но из всех свойств природы именно ее безразличие больше всего не давало покоя Тургеневу. Всю его жизнь утешительное «она не возненавидит своего творения» подавлялось собственным неумолимым выводом о том, что она в равной степени никоим образом не обязана и любить свое творение. Произведения Тургенева пронизаны прокаталепсисом, что совершенно неудивительно для его идеологически поляризованной эпохи; характерен он и для тургеневского образного представления о побуждениях природы. Размышляя о ней, он часто как бы задается вопросами: «Как именно она не будет обращать на меня внимание? Из-за чего она покинет меня?» И эти вопросы роднят его со своими столь многочисленными несчастными героями-мужчинами в моменты, когда они думают о женщинах, находясь на грани того, чтобы никогда не обрести или потерять счастье взаимного чувства. М. М. Одесская отмечает, что мотив безразличия природы «оставался едва ли не ведущим на протяжении всего творчества Тургенева» [Одесская 2000: 201].
Именно поэтому для наглядности стоило собрать в одном месте все высказывания Тургенева о безразличии природы, что и было сделано в данной книге в приложении 1. Анализируя эти мысли, приходившие ему в голову на протяжении почти пяти десятков лет, мы можем увидеть четкие структуры, носящие недвусмысленный отпечаток Шеллинга и Гёте. В высказываниях Тургенева, сделанных им как в художественных произведениях, так и в письмах, природа предстает прекрасной, величественной, немой, глухой, спокойной, несущей материнское начало, безжалостной, поглощающей, внеэтической, непреклонной, вечной. Целых два раза в заключительных пассажах своих наиболее важных работ – «Дневника лишнего человека» (1850) и «Отцов и детей» (1860–1861) – он завершает текст, цитируя последнюю строфу пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829), где лирический герой размышляет о человеческой смертности и неизбежности смены поколений:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять
[Пушкин 1977–1979, 3: 130].
Как видно из приложения 1, Тургенев даже решил сымитировать это четверостишие в собственном стихотворении «Синица» (1863), а также цитировал пушкинское «равнодушная природа» в двух письмах: первый раз – шутя, в письме к А. А. Фету (1860), а второй раз – абсолютно серьезно, будучи уже смертельно больным, в письме к Ж. А. Полонской (1882).
Если Пушкин ввел в высокую русскую культуру представление о равнодушной природе, то развил его во второй половине 1840-х годов как ключевое для русского контекста социополитическое понятие Герцен. Герцен написал второе из своих «Писем об изучении природы» (1844–1846) в августе 1844 года и опубликовал его в апрельской книжке «Отечественных записок» за 1845 год. Считая, как и Тургенев, своим учителем Гёте, он даже присовокупил к «Письму второму» собственный перевод «Die Natur» на русский язык. В основном тексте письма Герцен представляет природу «гармоническим целым, организмом, имеющим единство», чьи составляющие «носят в себе характер независимой самобытности от человека; они были, когда его не было; им нет до него дела, когда он явился; они без конца, без пределов; они беспрестанно и везде возникают, появляются, пропадают» [Герцен 1954–1965, 3: 130–131]. Похожую мысль высказывает и герценовский повествователь в романе «Кто виноват?» (1846): «Давно замечено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна к тому, что делают люди на ее спине» [Герцен 1954–1965, 4: 169]
.
В 1847–1848 годах Герцен несколько раз обращается к теме природы и ее безразличия по отношению к человечеству в ряде статей, вошедших в книгу «С того берега». Первый раз в статье «Перед грозой»:
Жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами. <…>
В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможностей; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, они развиваются и будут развиваться донельзя. <…> В сущности, для природы это всё равно, ее не убудет, из нее ничего не вынешь, всё в ней, как ни меняй, – и она с величайшей любовью, похоронивши род человеческий, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною – вероятно, еще с какими-нибудь усовершениями, взятыми из новой среды и из новых условий [Герцен 1954–1965, 6: 24, 37][23 - См. [Thiergen 2007: 271].]
.
Далее в книге бесстрастная сущность природного равновесия предстает в терминах статистики: «Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут на питание одной трети, лишь бы они развивались» [Герцен 1954–1965, 6: 56].
Неудивительно и то, что Герцен, ярый поборник отмены крепостного права, подчеркивает различие между противоестественной, с его точки зрения, склонностью человека порабощать и естественными отношениями хищника и жертвы:
Волк ест овцу, потому что голоден и потому что она слабее его, но рабства от нее не требует, овца не покоряется ему, она протестует криком, бегом; человек вносит в дико-независимый и самобытный мир животных элемент верноподданничества, элемент Калибана, на нем только и было возможно развитие Проспера; и тут опять та же беспощадная экономия природы, ее рассчитанность средств, которая, ежели где перейдет, то наверное не дойдет где-нибудь и, вытянувши в непомерную вышину передние ноги и шею камелеопардала, губит его задние ноги [Герцен 1954–1965, 6:99-100].
В этом отрывке равновесие природы привязано к ее же равнодушию, являющемуся противоположностью человеческой жажды доминировать как над людьми, так и над другими живыми существами[25 - Как мы увидим в главе четвертой, заветы Герцена, сформулированные в «Письмах об изучении природы» и «С того берега», сильно повлияли на собственные размышления Тургенева об устройстве природного мира.]. Уже в 1860 году Герцен мог написать: «Стихиям, веществу всё равно. <…> Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, религиозный поклеп на нее; она не настолько умна, чтоб бороться, ей всё равно» [Герцен 1954–1965, 11: 246–247].
Герцен познакомился с Тургеневым в Москве в феврале 1844 года, сблизились же они в Париже, регулярно видясь с весны 1848 года по май 1849 года[26 - См. [Schapiro 1982: 31; Герцен 1954–1965, 22: 176; Kelly 2016: 412; Летопись 1995: 138–146]. О сходстве взглядов Тургенева и Герцена на природу см. [Курляндская 1971: 50].]. В этот необычайный переломный момент – когда Европу накрыла революционная волна «Весны народов», Тургенев работал над рассказами, которые составят «Записки охотника», а Герцен писал статьи для книги «С того берега» – двое писателей, несомненно, обсуждали свои представления о природе, имевшие еще и до их личной встречи много общего. Трудно дать точную характеристику их взаимовлиянию, но вполне возможно, что именно решительная интонация Герцена придала форму словам Тургенева о «жестоком равнодушии природы» [Тургенев 19786, 1: 406], адресованным Полине Виардо летом 1849 года:
Эта штука – равнодушная, властная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа, это Бог; называйте ее как хотите, но не поклоняйтесь ей. Прошу понять меня: когда она прекрасна или когда она добра (а это не всегда с нею случается) – поклоняйтесь ей за ее красоту, за доброту, но не поклоняйтесь ей ни за ее величие, ни за ее славу! [Тургенев 19786, 1: 425].
Очень показательно, что Тургенев упоминает красоту и поклонение – понятия чужеродные для скорее научных герценовских формулировок. Надо сказать, что Тургенев вообще часто изображал мир природы в виде прекрасной, таинственной, женственной, богоподобной персоны. В этом вновь ощущается шеллингианское представление о единстве природы с Абсолютом, возможно, даже Богом. В «Поездке в Полесье» (1850–1857), например, Тургенев описывает отношение природы к человеку как «холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды» [Тургенев 1978а, 5: 130]. Это стремление к обожествлению проявилось в наиболее чистой форме, когда он уже приближался к концу своего жизненного пути, в стихотворении в прозе «Природа», написанном в 1879 году. Это короткое произведение представляет собой аллегорический сон, в котором величавая женщина в одежде зеленого цвета, погруженная в глубокую думу, олицетворяет мир природы. Вторя образам матери и ребенка из «Die Natur», повествователь обращается к ней: «О наша общая мать!» – и спрашивает, не о будущих ли судьбах человечества она размышляет. В ответ же эта богоподобная фигура говорит, снижая пафос повествования, что думает о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы восстановить равновесие нападения и отпора. На вопрос же ошарашенного рассказчика: «Но разве мы, люди, не любимые твои дети?» – Природа отвечает: «Все твари мои дети <…> и я одинаково о них забочусь – и одинаково их истребляю. <…> Я не ведаю ни добра, ни зла… <…> Я тебе дала жизнь – я ее отниму и дам другим, червям или людям… мне всё равно…» [Тургенев 1978а, 10: 164–165]. Ключевая идея, выразительно повторяющая «Die Natur», предельно ясна: важнейшей целью природы является равновесие, которого она может достичь лишь через абсолютное равнодушие.
Русские критики убедительно доказали связь «Природы» Тургенева с «Разговором Природы с Исландцем» Джакомо Леопарди (из его «Нравственных очерков»), написанным в мае 1824 года и опубликованным три года спустя. В диалоге Леопарди Исландец оказывается в глубине Африканского материка, куда не проникал ни один человек, и там ему встречается гигантская, прекрасная и вместе с тем грозная женщина, которая утверждает, что она – сама Природа. Отчаянно пытающийся убежать от страданий Исландец заключает, что природа – явный враг всех живых существ, включая человека, на что богоподобная фигура отвечает:
Уж не вообразил ли ты, будто мир создан ради вас? Знай же, что, творя, устанавливая порядок и вообще что-либо совершая, я почти всегда имела и имею в виду нечто иное, нежели счастье или несчастье людей. Когда я каким-либо образом или действием причиняю вам зло, я этого не замечаю, за редчайшими исключениями; и точно так же, если я порою даю вам наслаждение или благодетельствую, я обыкновенно даже не знаю об этом; я никогда не делала и не делаю ничего, имея в виду, как вы мните, доставить вам радость и угодить вам. И наконец, если бы даже мне случилось истребить весь ваш род, я бы этого и не заметила. <…> Мне кажется, ты не обратил должного внимания на то, что жизнь этого мира есть вечный круговорот рождения и уничтожения, связанных между собой так, что одно непрестанно служит другому, и оба вместе – сохранению самого мира, который распался бы, если бы прекратилось или одно, или другое. Потому было бы миру во вред, если бы хоть что-нибудь в нем оказалось свободно от страданий [Леопарди 1978: 109–111].
Леопарди приводит сразу две возможные концовки этой истории. Два истощенных льва съели разговорчивого Исландца, что дало им силы прожить еще несколько дней. Или же, как вариант, «поднялся жесточайший ветер, который простер его на земле, а над ним воздвиг горделивый мавзолей из песка, под коим Исландец, на славу высушенный и превращенный в превосходную мумию, был обнаружен некими путешественниками и помещен в музей в одном из городов Европы» [Леопарди 1978: 111].
Для Тургенева, равно как и для Леопарди, глупый самообман – верить в то, что Природа антропоморфна и потому обладает состраданием и моралью, потому что она – несмотря на древнюю традицию ее персонификации – нечто неодушевленное, бесчувственная совокупность видов и явлений. Поэтому тот факт, что рассказчик Тургенева и Исландец Леопарди представляют себе Природу в виде женщины, абсурден, но при этом оба писателя не смогли устоять перед соблазном персонифицировать гётеанские абстракции с помощью диалогов между антропоморфной богиней и ее опечаленным поклонником.
Тургенев смог достичь леопардианского уровня саркастической иронии по отношению к природе, но у него была и любимая альтернатива образу богини: взаимосвязанные метафоры, основанные на жизни насекомых и изображающие зацикленное на себе хищничество на «настоящем поле брани» (yrai champ de carnage), которое он так живо обрисовал в письме к Полине Виардо от 1868 года[27 - См. [Тургенев 19786, 9: 23].]. Впервые подобный образ насекомого появляется в более раннем письме, также адресованном Виардо, от 1849 года:
…она [природа] равнодушна; – душа существует только в нас и, может быть, немного вокруг нас… это слабое сияние, которое вечная ночь неизменно стремится поглотить. Но это не мешает злодейке-природе быть восхитительно-прекрасной, и соловей может очаровывать нас и восхищать, а тем временем какое-нибудь несчастное, полураздавленное насекомое мучительно умирает у него в зобу [Тургенев 19786, 1:406–407].
Безразличная к страданию, которое она причиняет, поддерживая собственное существование, насекомоядная птица просто занята своими обычными делами, даже если дела эти – прекрасное пение. В 1859 году Тургенев дважды использовал похожий образ, но на этот раз в шутливом споре Шубина с Берсеневым в романе «Накануне» хищником стал паразит:
Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А? [Тургенев 1978а, 6: 162].
В написанной примерно тогда же статье «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев приводит еще более разительный пример: «…всё живущее считает себя центром творения и на всё остальное взирает как на существующее только для него (так комар, севший на лоб Александра Македонского, с спокойной уверенностью в своем праве, питался его кровью, как следующей ему пищей…)» [Тургенев 1978а, 5: 341]. В своей второй рецензии на охотничий труд Аксакова 1852 года Тургенев взял для иллюстрации той же самой идеи «муху, свободно перелетающую с вашего носа на кусок сахару, на каплю меда в сердце цветка» [Тургенев 1978а,4:516–517][28 - Полный текст рецензии см. в приложении 3.]. В романе «Отцы и дети» нигилист Базаров видит муравья, тащащего полумертвую муху, и обращается к нему: «Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!» [Тургенев 1978а, 7: 119]. Хищнический образ жизни, позволяющий выжить самому, окружает нас повсюду и показывает великое равнодушие природы, только, так сказать, в более мелких масштабах: равнодушие индивидуальных организмов, совершающих насилие, чтобы утолить собственные физические потребности.
Для Тургенева связанные с насекомыми метафоры могут также воплощать отчаяние, порожденное созерцанием природного равнодушия. В 1864 году он писал Валентине Делессер:
Сфинкс, – который будет всегда перед всеми возникать, смотрел на меня своими неподвижными, пустыми глазами, тем более ужасными, что они отнюдь не стремятся внушить вам страх. Мучительно не знать разгадки; еще мучительнее, быть может, признаться себе в том, что ее вообще нет, ибо и самой загадки более не существует. Мухи, без передышки бьющиеся об оконное стекло, – вот, думается, самый точный наш символ [Тургенев 19786, 6: 194].
Об охотничьем типе равновесия
Таким образом, вдумчивый наблюдатель природного мира сталкивается с проблемой. Природа восхитительно прекрасна и даже близка к божественности в своей способности вызывать благоговейный трепет и преклонение со стороны тех, кто наблюдает ее. Не желая того, она вынуждает любить себя, но при этом не любит (да и не может любить) в ответ. Вспоминается известное изречение Спинозы, игравшее столь важную роль в жизни Гёте: «Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтоб и Бог его любил» [Спиноза 2001: 314][29 - Подробнее о влиянии Спинозы на Гёте см. в [Rosenzweig 2000: 60–61].]. Почти век спустя, после Лиссабонского землетрясения 1755 года, Кант сформулирует другую мысль: «Человек должен научиться подчиняться природе, но он хочет, чтобы она подчинялась ему»[30 - «Geschichte und Naturbeschreibung der merkwurdigsten Vorfalle des Erdbebens welches an dem Ende des 1755sten Jahres einen grossen Theil der Erde erschuttert hat». Цит. no: [Buek 1907: 321].]. Что же делать такому любящему природу художнику, как Тургенев, перед лицом этой равнодушной и всемогущей богини?
В своем выдающемся эссе «Корень и цветок» (1974) Роберт Л. Джексон делает обзор эстетических взглядов Тургенева и характеризует их в следующих понятиях: единство, консервативный, центростремительный, гармония, ясность, безмятежность, беспристрастный, равнодушный, баланс, сдержанность, равновесие, покой, объективность, спокойный, мера, отчужденность, примирение, перемирие [Jackson 1993: 164–169]. Исследователь отмечает сходство между этими признаками спокойствия в произведениях Тургенева и сущностными характеристиками, которые писатель видел в самом мире природе и приходит к выводу, что,
будучи художником, он принимает Природу как проводника. Возможно, беспристрастная справедливость Природы и не сулит ничего хорошего [человеку], но эта же самая Природа становится моделью для искусства и художника в <…> своей строгости, в своем олимпийском спокойствии и объективности. <…>
Художник в полном смысле слова для Тургенева <…> это тот, кто находит природу в себе и со спокойствием и мерой, характерными для самой природы, постигает жизнь в ее основополагающих взаимоотношениях, законах и преемственностях [Jackson 1993: 167, 169].
Тургеневский идеал писателя-охотника действительно заключался в отмеченной Джексоном имитации природного баланса, но это также было и равновесие, имеющее в своей основе куда большее насилие (вспомнить хотя бы описанные выше сцены переваривания полумертвых насекомых и сосания крови), нежели подразумевал Джексон. Это, конечно, «перемирие», но происходит оно на «поле брани». Равновесие, которого достиг Тургенев, было особого, охотничьего типа, отмеченного своими внутренними противоречиями и уникальными знаниями, доступными лишь охотникам. На то, как природа служила Тургеневу «проводником» и «моделью», глубоко повлиял опыт неустанного наблюдателя, преследователя и убийцы животных. Более того, вполне возможно, что именно этот опыт и побудил его принять беспристрастное равнодушие природы. Любовь Тургенева к охоте, начавшаяся еще в раннем отрочестве и ставшая уже во взрослом возрасте поводом для серьезных размышлений, привнесла в его жизнь такую физическую деятельность и такие привычки к наблюдению, которые на протяжении всех последующих лет оказывали влияние на его эстетику. Изучая его охотничью жизнь, составлявшие ее элементы и значение, которое он стремился ей придать, мы приближаемся к главному источнику художественных склонностей Тургенева, его постоянных литературных проектов и его философии.
В глазах Тургенева охотники отличались от всех прочих наблюдателей природы. Сам глубоко чувствуя природную красоту, он разделял отвращение Аксакова к романтической моде на преклонение перед природными пейзажами, которая оказывала дурную услугу охотничьему искусству и оскверняла почти религиозное преклонение перед миром природы, характерное для многих охотников. Аксаков писал:
Конечно, не найдется почти ни одного человека, который был бы совершенно равнодушен к так называемым красотам природы, то есть: к прекрасному местоположению, живописному далекому виду, великолепному восходу или закату солнца, к светлой месячной ночи; но это еще не любовь к природе; это любовь к ландшафту, декорациям, к призматическим преломлениям света <…>. Для [подобных людей в открывающихся перед охотниками пейзажах] нет красот природы <…>. Их любовь к природе внешняя, наглядная, они любят картинки, и то ненадолго [Аксаков 1955–1956, 4: 10][31 - Мнение Аксакова поразительно совпадает с мнением Генри Дэвида Торо, высказанным примерно в то же время: «Угрюмость, с которой дровосек рассказывает о своих лесах, относясь к ним с тем же равнодушием, с каким он относится к своему топору, лучше, чем сладкоречивый энтузиазм любителя природы» (написано в 1845–1847 годах) [Thoreau 1849: 112–113].].
В своей ранней повести «Бретер» (1846) Тургенев вкладывает аналогичное отношение в светскую болтовню добродушного, но поверхностного романтика Кистера: «“Я здесь нашел такое приятное общество… а природа!..” – Кистер пустился в описание природы» [Тургенев 1978а, 4: 42]. Василий Васильич, заглавный герой «Гамлета Щигровского уезда», говорит рассказчику «Записок охотника»: «Кажется <…> я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее». На что рассказчик-охотник с облегчением соглашается: «Можете, можете» [Тургенев 1978а, 3:265–266].
Наблюдать за природой лишь для получения удовольствия недостаточно. На охоту отправляются вовсе не потому, что следуют некоему плану маршрута, навязанному поверхностными представлениями о красоте. В мировоззрении Аксакова и Тургенева (хотя для охотников из их произведений это и не всегда так) целью является добыча, а не пейзаж. Долгие и частые пребывания любителей охоты на природе второстепенны по отношению к их задаче, состоящей в убийстве птиц и зверей, и, по мнению Юлиана Шмидта, стремясь к ее достижению, охотники становятся открытыми и внимательными ко всем явлениям природы, которые они могут встретить. При этом даже охотники, никак не связанные с традиционной литературной деятельностью, всё равно описывают то, что они видят и делают под открытым небом: рассказывают охотничьи истории у костра, составляют скрупулезные списки добычи, делятся подробностями походов в переписке с товарищами. Эндрю Дуркин так резюмирует данное Аксаковым в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» изображение охотника как внимательной и интегрированной составляющей органического мира: «Охота продолжает существовать как средство прямого участия в жизни природы, понимаемой как сложная система знаков, которые необходимо научиться интерпретировать и контролировать посредством наблюдательности
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: