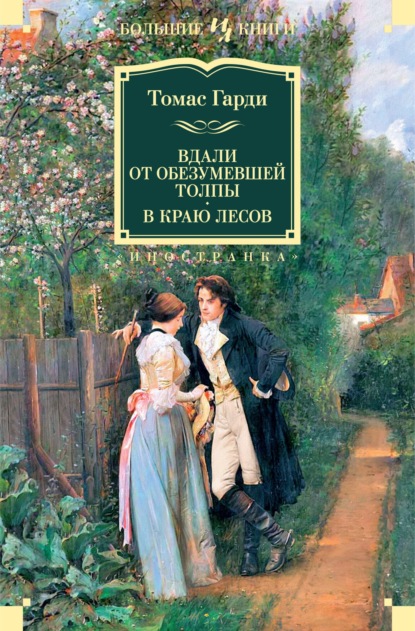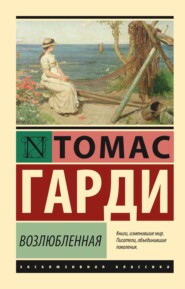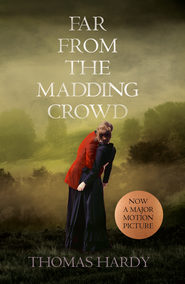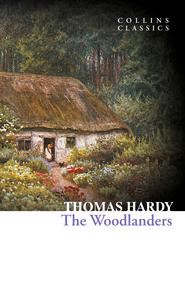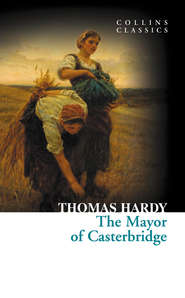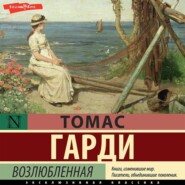По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вдали от обезумевшей толпы. В краю лесов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну что вы, папаша! – сказал Джекоб. – Брюкву вы сажали да копали летом, а солод зимой варили в те же годы, а вы их по два раза считаете.
– Уймись ты! Что ж я, по-твоему, леты и вовсе не жил? Ну что ты молчишь? Ты, верно, скоро уж скажешь, какие там его годы, и говорить-то не стоит.
– Ну этого уж никто не скажет, – попытался успокоить его Габриэль.
– Вы, солодовник, самый долголетний старик, – таким же успокаивающим и вместе с тем непререкаемым тоном заявил Джан Когген. – Все это знают, и что вам от природы этакое замечательное здоровье и могучесть даны, что вы столькие годы на свете живете, правда, добрые люди?
Успокоившийся солодовник смягчился и даже не без некоторого великодушия снисходительно пошутил над своим долголетием, сказав, что кружка, из которой они пили, еще на три года постарше его.
И когда все потянулись разглядывать кружку, у Габриэля Оука, из кармана его блузы, высунулся кончик флейты, и Генери Фрей воскликнул:
– Так это, значит, вас я видел, пастух, в Кэстербридже, вы дули в этакую большую свирель?
– Меня, – слегка покраснев, подтвердил Габриэль. – Беда со мной большая стряслась, люди добрые, туго мне пришлось, вот нужда и заставила. Не всегда я таким бедняком был.
– Ничего, голубчик! – сказал Марк Кларк. – Не стоит расстраиваться, плюньте. Когда-нибудь и ваше время придет. А вот ежели бы вы нам поиграли, мы были бы вам премного обязаны. Только, может, вы очень устали?
– Уж я, поди, с самого Рождества ни тебе трубы, ни барабана не слышал, – посетовал Джан Когген. – А правда, сыграйте нам, мастер Оук.
– Отчего ж не сыграть, – сказал Габриэль, вытаскивая и свинчивая флейту. – Инструмент-то у меня не бог весть какой. Но я с удовольствием, уж как сумею, так и сыграю.
И Оук заиграл «Ярмарочного плута», и повторил три раза эту веселую мелодию, и под конец так воодушевился, что в задорных местах поводил плечами, раскачиваясь всем туловищем и отбивая такт ногой.
– Здорово это у него получается – мастер он на флейте свистеть, – заметил недавно женившийся молодой парень, личность настолько непримечательная, что его знали только как мужа Сьюзен Толл. – У меня бы нипочем так не получилось, уменья нет.
– Толковый человек, с головой; вот уж, можно сказать, нам повезло, что такой пастух у нас будет, – сказал, понизив голос, Джозеф Пурграс. – Надо Бога благодарить, что он никаких срамных песен не играет, а все такие веселые да приятные; потому как для Бога все едино, он мог бы его не таким, какой он есть, сотворить, а мерзким, распутным человеком, нечестивцем. Ведь вот оно что! Нам за своих жен и дочерей радоваться должно, Бога благодарить.
– Да, да, вот именно, надо Бога благодарить! – решительно умозаключил Марк Кларк, нимало не смущаясь тем, что из всего сказанного Джозефом до него дошло от силы два-три слова.
– Да, – продолжал Джозеф, чувствуя себя чуть ли не пророком, – ибо времена пришли такие, что зло процветает и обмануться можно в любом человеке, будь он приличный с виду, в белой крахмальной рубашке, начисто выбрит или какой-нибудь бродяга в лохмотьях, промышляющий у заставы.
– А я теперь ваше лицо припоминаю, пастух, – промолвил Генери Фрей, приглядываясь затуманенным взором к Габриэлю, который начал играть что-то новое. – Только вы в свою флейту задули, я тут же и признал, – значит, вы и есть тот самый человек, который в Кэстербридже играл, вот и губы у вас так же были выпячены, и глаза, как у удавленника, вытаращены, точь-в-точь как сейчас.
– А ведь и впрямь обидно, что человек, когда на флейте играет, выглядит этаким пугалом, – заметил мистер Марк Кларк, также окидывая критическим оком лицо Габриэля, который в это время, весь напружившись, со страшной гримасой, подергивая головой и плечами, наяривал хоровую песенку из «Тетушки Дэрдин».
Тут были Молли, и Бэт, и Долли, и Кэт,
И замарашка Нэлл!
– Уж вы не обижайтесь на парня, что он, такой грубиян, про вашу наружность судит, – тихонько сказал Габриэлю Джозеф Пурграс.
– Да нет, что вы, – улыбнулся Оук.
– Потому как от природы, – умильно-подкупающим тоном продолжал Джозеф, – вы, пастух, очень красивый мужчина.
– Да, да, верно, – подхватила компания.
– Очень вам благодарен, – со скромной учтивостью благовоспитанного молодого человека сказал Оук и тут же решил про себя, что ни за что никогда не будет играть при Батшебе, проявляя в этом решении такую осмотрительность, какую могла бы проявить разве что сама породившая ее богиня мудрости Минерва.
– А вот когда мы с женой венчались в норкомбской церкви, – внезапно вступая в разговор, сказал старик-солодовник, явно недовольный тем, что речь идет не о нем, – так о нас такая молва шла, что красивее нас парочки в округе нет, так все и говорили.
– И здорово же ты с тех пор изменился, дед-солодовник, – раздался чей-то голос, проникнутый такой искренней убежденностью, с какой человек высказывается о чем-то само собой разумеющемся, очевидном. Голос принадлежал старику, сидевшему сзади, который то и дело старался ввернуть какое-нибудь ядовитое словцо и, присоединяясь иногда к общему смеху, пытался хихиканьем скрыть свое раздражение и зависть.
– Да нет, вовсе нет, – возразил Габриэль.
– Вы уж больше не играйте, пастух, – взмолился муж Сьюзен Толл, молодой, недавно женившийся парень, который до этого только один раз и открыл рот. – Мне надо идти, а когда музыка играет, меня точно проволока держит. А если я уйду да подумаю дорогой, что здесь музыка играет, а меня нет, я совсем расстроюсь.
– А чего ты так торопишься, Лейбен? – спросил Когген. – Ты, бывало, всегда чуть ли не последним уходил.
– Ну сами понимаете, братцы, я недавно женился, ну так оно вроде как моя обязанность… сами понимаете. – Малый от смущения замялся.
– Новый хозяин – новый порядок, как оно в пословице говорится, так, что ли? – подмигнул Когген.
– Ха-ха! Да так оно и выходит, – смеясь, подхватил муж Сьюзен Толл, всем своим видом давая понять, что он все такой же, как был, и нисколько на шутки не сердится.
За ним вскоре ушел и Генери Фрей. А затем Габриэль с Джаном Коггеном, который предложил ему у себя жилье. Но не прошло и нескольких минут – остальные тоже поднялись и уже собирались расходиться, – как вдруг в солодовню ворвался запыхавшийся Генери Фрей.
Зловеще помавая перстом, он вперил многоречивый взор куда-то в пространство и случайно наткнулся на физиономию Джозефа Пурграса.
– Ох, что случилось, что случилось, Генери? – отшатываясь, простонал Джозеф.
– Что там еще такое, Генери? – спросили в один голос Джекоб и Марк Кларк.
– Управитель-то, Пенниуэйс, что я говорил, говорил ведь…
– А что, на месте поймали, хапнул что?
– Ну да, хапнул. Говорят, мисс Эвердин после того, как вернулась домой, малость погодя опять вышла, как всегда, на ночь поглядеть, все ли в порядке, и видит: он по лестнице из амбара крадется с полным мешком ячменя. Она в него, как кошка, вцепилась, – она ведь такая, бедовая, – ну это, конечно, промеж нас?
– Ясное дело, промеж нас, Генери.
– Как она на него накинулась, он, значит, и сознался, что пять мешков из амбара вынес. Это после того, как она ему обещала, что в суд на него не подаст. Ну, она тут же его взашей и выгнала. А теперь спрашивается, кто же у нас управителем будет?
Это был такой важный вопрос, что Генери вынужден был приложиться к большой кружке, что он и сделал, да так основательно, что не отрывался до тех пор, пока у нее не обозначилось дно. Не успел он поставить ее на стол, как вбежал муж Сьюзен Толл, тоже едва переводя дух.
– Слышали вы, что у нас в приходе-то говорят?
– Это насчет управителя Пенниуэйса?
– Да нет, кроме того!
– Кроме? Нет, ничего не слыхали, – ответили все хором и так впились глазами в Лейбена, словно стараясь выхватить слова у него изо рта.
– Ну и ночь выдалась, ужас-то какой! – бормотал Джозеф Пурграс, судорожно всплескивая руками. – Недаром у меня в левом ухе такой звон стоял, ну ровно как набат, и потом я еще сороку видел, сама по себе одна скакала.
– Фанни Робин нигде найти не могут, младшую служанку мисс Эвердин. Они там, в доме-то, уже часа два тому назад запереться на ночь хотели, глядь, а ее нет. Ну они и не знают, что делать, как спать-то ложиться, как же она тогда в дом попадет. Так-то они, может, и не тревожились бы, да она последнее время сама не своя ходила, и Мэриен боится, как бы она, бедняжка, над собой чего не учинила.
– А что, как она сгорела! – вырвалось из запекшихся уст Джозефа Пурграса.