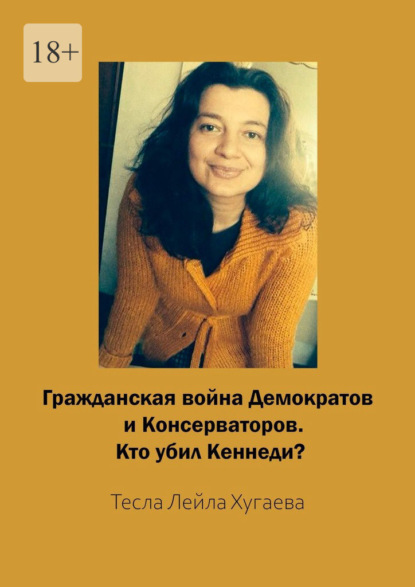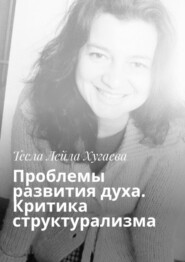По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гражданская война Демократов и Консерваторов. Кто убил Кеннеди?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я поддерживаю Кьеркегора, – сказал, поднимаясь на кафедру, Альбер Камю. —
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Те, что все отрицают и дозволяют себе убийство, – Сад, денди-убийца, безжалостный Единственный, Карамазов, последыши разнузданного разбойника, стреляющий в толпу сюрреалист – все они добиваются, в сущности, абсолютной свободы, безграничного возвеличивания человеческой гордыни. Обуянный бешенством нигилизм смешивает воедино творца и тварь. Устраняя любое основание для надежды, он вбрасывает все ограничения и в слепом возмущении, затмевающем даже его собственные цели, приходит к бесчеловечному выводу: отчего бы не убить то, что уже обречено смерти».
Да, я тоже писал о том, что есть две духовные энергии: одна демоническая упертость против творца, а другая здоровая, свобода осознанной необходимости. Первое есть поиски абсолютной свободы, отрицающая науку, добродетель и общую природу человека. Вторая есть относительная свобода, подчинение законам мышления и законам природы, единение с человеческим духом рационализма и добродетели.
В свое время мы поссорились по этой причине с Сартром. Мне стала противна его философия этого раздутого Эго немецкого идеализма, этой демонической свободы, которая отказывается признавать законы природы и общую природу человечества! И я написал книгу «Бунтующий человек», где со всей ясностью выступил против философии Ницше, Гегеля, Маркса, против сюрреализма Андре Бретона, против всякой субъективности, о которой так хорошо сказал Кьеркегор в «Болезни к смерти».
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Анализ бунта приводит по меньшей мере к догадке, что человеческая природа действительно существует, соответственно представлениям древних греков и вопреки постулатам современной философии. Точно так же в XIX в. все научные дисциплины преодолели неподвижность и отошли от идеи классификации, что было характерно для научной мысли XVIII в. Подобно тому как Дарвин сменил Линнея, философы непрерывной диалектики сменили гармоничных и бесплодных конструкторов разума. С этого момента возникает идея (враждебная всей античной мысли, которая частично обнаруживала себя в революционном французском духе), что человек не обладает данной ему раз и навсегда природой, что он не завершенное создание, а становление, творец которого отчасти он сам. С Наполеоном и Гегелем, этим Наполеоном от философии, начинаются времена действенности. Но в то же время разум у Гегеля охвачен дрожью безумия, в него внесена безмерность, и результат – налицо. Разум, находящийся во власти подобного романтизма, – это уже не что иное, как неукротимая страсть.»
У Сартра, который понимает человека как художественный проект, реализующий самого себя, где сам человек и бог и творец, так что ни прошлое «ничто под небесами» не может помешать ему реализовать свою абсолютную волю, моя книга вызвала отвращение. Потому что я вернулся к тебе Декарт, потому что мне противен иррационализм и отрицание законов природы, еще противнее мне нигилизм и отрицание общей природы и общей этики человечества. Да, я предстал там рационалистом и гуманистом, и это вызвало отвращение у ницшеанца Сартра. И я тоже разделил две духовные энергии человека, когда говорил о демоническом бунте (люцефирианском) романтиков с одной стороны, и о античном бунте рационалистов – с другой стороны. Первое есть та шизоидная экзальтация абсолютной свободы, которая высвобождает безумию и агрессию в человеке; второе – те высоты здорового духа, которые дают человеку его великую силу в научном мышлении, и в единении сотрудничества и дружбы.
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Ненависть к формальной добродетели, этой ущербной свидетельнице и защитнице божества, лжесвидетельнице на службе у несправедливости, остается одной из пружин сегодняшней истории. «Нет ничего чистого» – от этого крика судорогой сводит наше столетие. Нечистое, то есть история, вскоре станет законом, и пустынная земля будет предана голой силе, которая установит или отринет божественность человека. Тогда насилию и лжи предаются так, как отдают себя религии, – в том же самом патетическом порыве. Но первой основательной критикой чистой совести, разоблачением прекрасной души и выявлением недейственности этих Добродетелей мы обязаны Гегелю, для которого идеология истины, красоты и добра есть религия людей, которые ими не обладают.
Действительно, романтизм с его люциферианским бунтом выльется только в авантюры воображения. Так же как у Сада, его отличие от античного бунта выразится в том, что он сделает ставку на индивида и зло. Акцентируя силу вызова и отказа, бунт на этой стадии забывает о своей позитивной стороне. Поскольку Бог взывает ко всему доброму в человеческой душе, нужно превратить все доброе в посмешище и выбрать зло. Таким образом, ненависть к несправедливости и смерти приведет если не к осуществлению, то, по крайней мере, к апологии зла и убийства. Это обусловливает нигилизм и снимает запрет с убийства. Убийство вскоре станет привлекательным. Достаточно сравнить Люцифера в средневековых изображениях с романтическим Сатаной. «Печальный очаровательный юноша» (Виньи) занимает место рогатой твари. «Красой блистая неземной» (Лермонтов), могучий и одинокий, страдающий и презирающий, он убивает, не задумываясь. Но его оправдывают страдания. Поэтому понятно замечание Андре Бретона о Саде: «Конечно, ныне человек может слиться с природой только через преступление; остается разгадать, не является ли это одним из самых безумных и неоспоримых способов любить». Вот почему наследие романтизма усвоил не Гюго, пэр Франции, а Бодлер и Ласенер*, поэты преступления. По словам Бодлера, «все в этом мире источает злодеяние – и газета, и стена, и человеческое лицо».
В противоположность этой абсолютной свободе демонизма, которую проповедует немецкий идеализм, романтизм и дендизм, мы проповедует общую природу человека, относительную свободу осознанной необходимости рационалистов, добродетель взаимного уважения и дружбы.
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Хотя бы на мгновение. Но пока достаточно и этого, чтобы сказать, что предельная свобода – свобода убивать – несовместима с целями бунта. Бунт ни в коей мере не является требованием тотальной свободы. Напротив, он призывает к суду над ней. Он по всей справедливости бросает вызов неограниченной власти, позволяющей ее представителям попирать запретные границы. Отнюдь не выступая за всеобщее своеволие, бунтарь хочет, чтобы свободе был положен предел всюду, где она сталкивается с человеком… В этом глубочайший смысл бунтарской непримиримости. Чем более бунт осознает необходимость соблюдения справедливых границ, тем неукротимей он становится. Бунтарь, разумеется, требует известной свободы для себя самого, но, оставаясь последовательным, он никогда не посягает на жизнь и свободу другого. Он никого не унижает. Свобода, которую он требует, должна принадлежать всем; а та, которую он отрицает, не должна быть доступна никому. Бунт – это не только протест раба против господина, но и протест человека против мира рабов и господ. Стало быть, благодаря бунту в истории появляется нечто большее, чем отношение господства и рабства. Неограниченная власть уже не является в нем единственным законом. Во имя совсем иной ценности бунтарь утверждает невозможность тотальной свободы, в то же время требуя для себя свободы относительной, необходимой для того, чтобы осознать эту невозможность. Каждая человеческая свобода в глубочайшем своем корне столь же относительна. Абсолютная свобода – свобода убивать единственная из всех, не требующая для себя никаких границ и преград. Тем самым она обрубает свои корни и блуждает наугад абстрактной и зловещей тенью, пока не воплотится в теле какой-нибудь идеологии. Стало быть, можно сказать, что бунт, ведущий к разрушений алогичен. Будучи поборником единства человеческого удела бунт является силой жизни, а не смерти. Его глубочайшая логика – логика не разрушения, а созидания».
Жюльен Бенда встретил выступление друзей громкими аплодисментами.
– Ты, Альбер Камю, написал великую книгу! – сказал он. – Дай я пожму твою честную руку! Как мужественно ты выступил против иррационализма и нигилизма немецкой философии, и романтического экзистенциализма! Однако, позволь тебе сказать, ты очнулся только после Второй мировой войны, когда немцы уже проявили все безумие своего «обманчивого куража», как сказал Томас Манн. Я же написал свою книгу «Предательство интеллектуалов» накануне Второй мировой! И все мои опасения вскоре полностью подтвердились! И тогда мою книгу издали второй раз. Ты думаешь, даже эта страшная война смогла придать моим словам силу? О них тут же забыли. А немецкий идеализм живее всех живых. Вот что я тогда писал.
Ж. Бенда «Предательство интеллектуалов»:
«Напомним, что в истории философии почитание единичного, индивидуального – это вклад немецких философов (Шлегеля, Ницше, Лотце), тогда как метафизическое преклонение перед всеобщим (соединенное даже с некоторым пренебрежением к экспериментальному) – преимущественно греческое наследие человеческого разума; так что и в этом отношении учение современных интеллектуалов в его глубинных особенностях означает торжество германских ценностей и поражение греческой культуры. …Сегодняшняя действительность дает еще больше оснований для такого утверждения. Признанные учители наших поэтов (сюрреалистов) – Новалис и Гёльдерлин; наши философы (экзистенциалисты) объявляют себя приверженцами Гуссерля и Хайдеггера; триумф ницшеанства стал подлинно мировым».
Другим предательством интеллектуалов является, на протяжении двадцати лет, позиция многих из них в отношении последовательных изменений мира, особенно его экономических изменений. Она состоит в отказе от рассмотрения этих изменений с помощью разума (т.е. с точки зрения, внешней по отношению к ним) и от поиска их закономерностей, согласных с рациональными принципами; Это тезис диалектического материализма. Эта позиция, вопреки притязаниям тех, кто ее разделяет, никоим образом не является новой формой мышления, ?новейшим рационализмом?; она есть отрицание разума, если полагать, что разум состоит как раз не в том, чтобы сливаться с вещами, а в том, чтобы создавать в рациональных понятиях представления о них. Это позиция мистическая».
Я говорил о нашем сообществе Людей Духа, когда писал, что интеллектуалы хранили цивилизацию от агрессии бессмысленного насилия и от распространения права силы. Я говорил о том, что немецкая философия разрушила рационализм, который олицетворяли античные греки, Декарт, Спиноза, Ренан, Эйнштейн. Я говорил, что интеллектуалы предали нас, когда отказались от рационализма, когда современная философия стала выдавать за рационализм – мистику субъективизма, когда отказались от общей истины и от этики, разрушив само понятие истины и добродетели.
Ж. Бенда «Предательство интеллектуалов»:
«Позиция интеллектуала выражена в следующих словах корифея: ?…Мы… разумеем жизнь человеческую, которая определяется не только кровообращением и другими функциями, свойственными всем животным, но преимущественно разумом, истинной добродетелью и жизнью духа?.
«Я имею в виду тот класс людей, который я буду здесь называть интеллектуалами, обозначая этим именем всех тех, кто в своей деятельности, по существу, не преследует практических целей и, находя отраду в занятиях искусством, или наукой, или метафизическими изысканиями – словом, в обладании благом не временным, как бы говорит: ?Царство мое не от мира сего?. Когда Жерсон взошел на кафедру собора Нотр-Дам, чтобы заклеймить убийц Людовика Орлеанского; когда Спиноза, рискуя жизнью, написал на дверях подстрекателей к убийству де Виттов: ?Ultimi barbarorum?; когда Вольтер боролся за Каласа; когда Золя и Дюкло принимали участие в знаменитом процессе Дрейфуса, – эти интеллектуалы в самом высоком смысле исполняли миссию интеллектуалов; они служили отвлеченной справедливости и не пятнали себя страстью к чему-либо мирскому. Они не воспрепятствовали мирской части человечества наполнить историю распрями и кровопролитиями, но и не позволили ей сделать из ненависти религию и вменить себе в великую заслугу совершенствование разрушительных страстей. Только благодаря таким людям можно сказать, что на протяжении двух тысячелетий человечество творило зло, но поклонялось добру. Это противоречие было гордостью человеческого рода и создавало разлом, сквозь который могла проникнуть цивилизация. Однако в конце XIX века происходит радикальная перемена: интеллектуалы начинают потворствовать политическим страстям; накидывавшие узду на реализм народов теперь становятся его поощрителями».
Карл Поппер поддержал своих коллег в этом месте.
– Моя ненависть к Гегелю общеизвестна, – заявил старый философ. – И я уже однажды сформулировал «парадокс свободы»: абсолютная свобода сама себя отменяет, превращается в тиранию сильного над слабым, об этом вроде бы все уже сказали. Я в свое время говорил об этом применительно к свободе рыночной конкуренции и обосновывал необходимость вмешательства государства, чтобы защитить слабых от сильных. Меня тогда обозвали социалистом, хотя я сам всегда считал себя крайне правым. Маргарет Тетчер писала в своих мемуарах, что такое вмешательство в экономику, «социальная инженерия» только помешают. Я предлагал интервенцию государства. И сейчас считаю, что неконтролируемый рынок – это дикие джунгли.
Карл Поппер «Открытое общество и его враги»:
«Парадокс свободы в том, что свобода сама себя упраздняет, если она не ограничена. Неограниченная свобода означает, что сильный человек свободен запугать того, кто слабее, и лишить его свободы. Именно поэтому мы требуем такого ограничения свободы государством, при котором свобода каждого человека защищена законом. Никто не должен жить за счет милосердия других, все должны иметь право на защиту со стороны государства»
Долгими и продолжительными овациями духоборцы Храма Духа пригласили Альберта Эйнштейна сказать свое слово о победе рационализма над эмпиризмом.
– Вы помните, друзья, наш спор с великим физиком Нильсом Бором. Это был спор рационалиста и эмпирика. Я никак не мог примириться с тем, простите, глупостями, которыми Нильс Бор и др эмпирики объясняли чудеса, которые нам всем довелось наблюдать в экспериментах с квантами. Сказать глупость – не значит дать объяснение. Я до сих пор настаиваю, что вся так называемая «копенгагенская интерпретация» – только глупость и ничего больше. Она ничего не объясняет, только нагромождение слов.
Мои прогнозы тоже не оправдались, и они решили, что рационализм побежден. Нет, друзья, я уже тогда сказал, что такие проблемы решаются на другом уровне мышления, и что решение придет с открытием какой-то новой важной истины. Как прав я оказался! Моя интуиция меня никогда не подводила. Я хотел найти доказательство детерминизма причинных связей в том пространстве-времени, которое мы сформулировали для физики. Там не оказалось места квантам! Но ведь то, что вы называете открытием психической энергии, утверждает существование пространства-времени Духа, то есть пространства Интеллекта, наряду с пространством-временем физики. И тогда все чудеса квантов, которые не вписывались в «уравнения физики», только подтверждают теорию пространства-времени Духа. И значит, рационализм ставит жирную точку в этом вековом споре.
Что касается свободы, друзья, я уже писал, что не понимаю этого слова иначе, чем Спиноза. Мы, рационалисты, твердо убежденны в существовании законов природы. Я говорил, что даже полет насекомого заранее детерминирован. Свобода человека относительна, ее дает мышление, которого нет у другой материи. Но и мышление подчиняется законам природы, и мышление, не может больше чем контроль законов природы. Победа рационализма над эмпиризмом, над иррациональностью субъективизма – это прежде всего правильное понимание свободы человека. Для рационалиста основа существования – наука, стремление к истине, а свобода ограничивается научным мышлением. Для субъективиста основа существования – свободная воля, а мышление превращается в фантазии воздушных замков на песке. Это гибель науки.
На этом мудром заключении о разграничении абсолютной свободы мистического мышления, и свободы как осознанной необходимости философии рационалистов слушание по делу английского эмпиризма и немецкого идеализма было закончено.
Глава 7
Спенсер против Хайека, Мизеса и Поппера. Суд над коллективизмом
Главы австрийской школы экономистов, известные своим пристрастием к либерализму и ненавистью к социализму, потребовали Суда над Коллективизмом, уверяя духоборцев Храма Духа, что они уже много раз доказали порочность социализма, и им не составит никакого труда сделать это еще раз здесь, среды своих коллег ученых. Заявка была тотчас же удовлетворена и слушания Большого Суда на следующий день открыли Фридрих фон Хайек, Людвиг фон Мизес и Карл Поппер. Поддержать друзей пришла и Айн Ренд.
– Что происходит на этом Большом Суде величайших умов человечества? – не мог сдержать своего возмущения Хайек. – Все выглядит так, словно мы присутствуем не на интеллектуальном Олимпе всех времен и народов, а на каком-то жалком сборище политиканов, подтасовывающих результаты заранее! Я смело бросаю вам вызов в лицо! Тот факт, что подавляющее большинство здесь собравшихся – рационалисты и социалисты, вовсе не значит, что рационализм и социализм – победили! И что это есть истина, которой мы все должны подчиниться. Это всего лишь ваши предпочтения, господа, а нас, убежденных индивидуалистов и либералов, ничего не заставит переменить своего мнения. Даже большинство Большого Суда в Храме Духа!
– Уважаемый Фридрих фон Хайек! Приветствую тебя, друг! – сказал Бертран Рассел, пожимая руку коллеге. – Я помню интересную книгу, которую ты написал. «Дорога к Рабству». Мне было легко запомнить, потому что у меня есть книга с похожим названием «Дороги к Свободе». Да, ты убедительно доказываешь там, что коммунизм и фашизм – только разновидности социализма, тоталитарные системы плановой экономики, которые лишают людей физической и моральной свободы. Однако, ты сам себе противоречишь. Ты утверждаешь там, что понятия «либерал» и «социалист» – несовместимы, но в то же время, упомянув мое имя, характеризуешь меня как «либерального социалиста». Далее, ты утверждаешь, что всякий социализм – есть в основе своей коллективизм плановой экономики. Это твое утверждение далеко не самоочевидно. Ты иронизируешь над социалистическими взглядами Герберта Уеллса, одна и я, и Герберт Уеллс писали о другом социализме, суть которого в единстве интеллектуальном, духовном, психологическом. Моя критика Маркса сосредоточена на его «Экономизме», и на том что он презирал психологический подход, совершенно напрасно, на мой взгляд. Уеллс в книге «Боги как люди», где он рисует свою утопию социализма, так же подчеркивает, что людей объединяет не плановая экономика, и вообще не экономика, а естественное право законов психологии.
Ты знаешь мое кредо: истина прежде всего. Истина подправленная экономическими, политическими и даже моральными соображениями – уже не истина. Если бы гуманистическая этика совести и сочувствия противоречила природе человека, я первым бы отказался от этой этики. Но пока не доказано обратное, мы считаем гуманизм природой человека. Прошу тебя, расскажи нам свою истину, и если ты сможешь ее доказать, кто в Храме Истины посмеет тебе противоречить?
– Приветствую тебя, Рассел. Что ж, я действительно назвал тебя социалистом, работающим в либеральной традиции, но это не то же самое, что «либеральный социалист»!
Наши аргументы известны:
1.Всякий тоталитаризм – это коллективизм, основанный на плановой экономике. И в этом смысле коммунизм и фашизм только две стороны одной медали, только разные формы социализма
2. Либерализм – это свобода конкурентной экономики, но регулируемого рынка. Задача свободного государства только создавать людям условия для конкурентного производства и торговли, и устанавливать общий закон для всех. Государство не морально и не ответственно за индивидов. Мораль каждый выбирает себе сам. Нас обвиняли в Эгоизме! Неправда, индивидуалист – не значит эгоист! Индивидуалист – значит сам выбирает быть ему эгоистом или альтруистом! Если вам хочется использовать свою свободу для служения другим, никто вам в этом не препятствует в свободной экономике. Если вам хочется сосредоточится на своем благе – это тоже законный выбор каждого индивида.
3. В тоталитарных обществах все наоборот. Они укоряют нас в эгоизме, а себя называют моральными! Их мораль якобы – альтруизм, якобы служение обществу, общему благу. А в итоге получается, что у них не остается никакой морали, потому что для них это общее оправдывает все средства, индивиды становятся не самоцелью, а средствами для государственной машины.