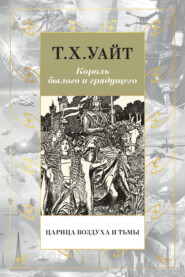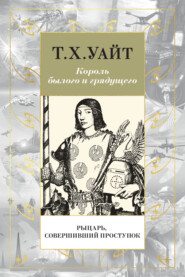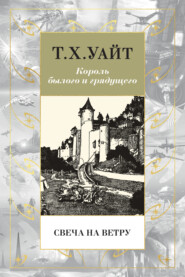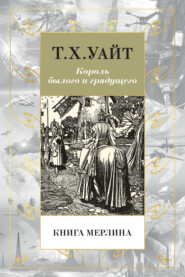По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король былого и грядущего
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– По-моему, все вы отъявленные мерзавцы. – И, что-то бормоча, удалился в глубь леса.
Вепря разделали, собак наградили, и загонщики, стоя кружками и беседуя (сесть на снег они не могли, потому что тогда бы намокли), съели провизию, принесенную девушками в корзинках. Пробили небольшой бочонок вина, прихваченный предусмотрительным сэром Эктором, и все как следует выпили. Ноги вепря связали, просунули между ними кол, двое мужчин взвалили его на плечи. Вильям Твайти отошел в сторонку и со всем вежеством протрубил отбой.
Именно в этот миг вернулся Король Пеллинор. Еще до того как его стало видно, все услыхали, как он ломает кусты и взывает: «Скорее, скорее! Сюда! Случилось самое страшное!» Он театрально возник на краю поляны именно в ту минуту, когда потревоженная ветка, чье бремя оказалось слишком тяжелым, обрушила ему на голову что-то около центнера снега. Но Король Пеллинор этого даже и не заметил. Он выкарабкался из сугроба, не обратив на него никакого внимания, и воззвал:
– Скорее, скорее!
– Что такое, Пеллинор? – прокричал сэр Эктор.
– Ох, скорее сюда, – крикнул Король и, помраченно поворотясь, снова исчез в лесу.
– Как по-вашему, – поинтересовался сэр Эктор, – с ним все в порядке?
– Возбудимая натура, – сказал сэр Груммор, – весьма.
– Пойдемте-ка поглядим, что он там делает.
И вся процессия неторопливо двинулась в сторону Короля Пеллинора, повторяя по свежим следам в снегу его беспорядочные метания.
Их ожидало зрелище, к которому они не были готовы. В мертвых кустах можжевельника сидел Король Пеллинор, и по лицу его потоком струились слезы. А на коленях его покоилась огромная змеиная голова, и он ее гладил. По другую сторону головы тянулось долгое, тощее, желтое, покрытое пятнами тело. Завершалось оно подобием львиных лап с оленьими голенями.
– Ну что ты, ну что? – говорил Король Пеллинор. – Я же не думал навсегда тебя бросить. Мне хотелось хоть немного поспать на перине, вот и все. Я бы вернулся, правда, обязательно бы вернулся. Ох, ну не умирай же, Зверюга, что ж ты меня совсем без катышей оставишь?
Увидевши сэра Эктора, Король принялся командовать. Отчаяние придало ему властности.
– Ну же, сэр Эктор, – воскликнул он, – что ж вы стоите, как дурачок? Немедля тащите сюда ваш бочонок с вином.
Притащили бочонок и, не скупясь, налили Искомой Звери вина.
– Несчастное создание, – разгневанно говорил Король Пеллинор. – Оно зачахло, просто зачахло оттого, что никто не проявлял к нему интереса. Как я мог столько времени оставаться у сэра Груммора и ни разу не вспомнить о моей доброй, старой Зверушке – ума не приложу! Вы только посмотрите на ее ребра, посмотрите. Словно обручи на бочке. Лежит в снегу, одна-одинешенька, утратив всякую волю к жизни. Давай-ка, Зверь, поднимись, попробуй сделать еще глоточек. Это тебе поможет. Развалился на перине, – добавил безжалостный монарх, испепеляя взглядом сэра Груммора, – как, как деточка малая!
– Но как же вы – как же вы ее отыскали? – запинаясь, спросил сэр Эктор.
– Случайно наткнулся. Вам надо спасибо сказать, хоть и не за что. Носятся тут, как орава придурков, и лупят друг друга мечами по спинам. Случайно наткнулся вот здесь, прямо в кустах. Лежит, – спина, бедная, вся в снегу, в глазах слезы, и в целом свете никому до нее нет дела. Вот что значит неправильный образ жизни. То ли дело прежде! Вставали мы с ней в одно время, всегда в один час выходили на охоту, а в половине одиннадцатого – спать. А что теперь – взгляните на нее. Превратилась в развалину, и это вы будете виноваты, если она умрет. Вы и ваша постель.
– Однако, Пеллинор! – сказал сэр Груммор…
– Заткнитесь! – мгновенно ответил Король. – И что вы стоите тут дурак дураком. Делайте что-нибудь. Добудьте еще один кол, чтобы мы смогли донести старушку Глатисанту до дома. Вы-то что же, Эктор, – совсем уже разумения лишились? Все, что нам требуется, это снести ее домой и уложить на кухне, у очага. Отправьте кого-нибудь вперед, пусть приготовят хлеба и молока. А вы, Твайти, или как вы там предпочитаете зваться, перестаньте тютькаться с вашей дудкой, бегите к дому и скажите, пусть согреют несколько одеял. И когда мы придем домой, – закончил Король Пеллинор, – мы ее первым делом накормим до отвала для укрепления сил, а поутру, если она оправится, я ей дам форы пару часов – и вперед, к старой жизни. Как насчет этого, а, Глатисантушка? Твое дело улепетывать, мое – догонять. Подите сюда, Робин Гуд, или как вас там, – вы небось думали, я не знаю, – все я знаю, будет уж вам опираться на лук с видом этакого нерадивого следопыта. Давайте, голубчик, встряхнитесь, и пусть этот свихнувшийся на мускулатуре сержант пособит вам ее нести. Ну, подняли, да полегче. Вперед, обормоты, да смотрите у меня, не споткнитесь. Пуховые подушки, «дачи», надо же! Детский лепет! Давайте-давайте, двигайтесь, вперед, шагом марш! Головы у вас пуховые, вот это как называется!
– Что же до вас, Груммор, – прибавил Король уже после того, как закончил, – можете сами влезть в вашу постель, накрыться периной и задохнуться!
17
– По-моему, – сказал Мерлин, как-то под вечер взглянув на Варта поверх очков, – тебе самое время получить еще одну порцию образования. Я хочу сказать, Время-то уходит.
Дело было ранней весной, и все, что виделось из окна, казалось прекрасным. Зимний покров сошел и увлек за собой сэра Груммора, мастера Твайти, Короля Пеллинора и Искомого Зверя, – последний под воздействием доброты, молока и хлеба поправился. Он ускакал в снега, всем своим видом выказывая благодарность, а два часа спустя за ним последовал взволнованный Король, и зрители на зубчатых стенах наблюдали за тем, как Зверь, достигнув границы ловчего поля, принялся с большой изобретательностью запутывать следы на снегу. Он то бежал задом, то отпрыгивал в сторону футов на двадцать, то хвостом заметал отпечатки, то отползал вбок, цепляясь за нижние ветви деревьев, – словом, с явным наслаждением проделывал множество разных фокусов. Видели они и Короля Пеллинора, который, пока все это длилось, стоял, исправно зажмуря глаза и считая до десяти тысяч, а потом, добравшись до трудного места, совершенно запутался и в конце концов ускакал галопом не в ту сторону, волоча за собою ищейку.
День был чудесный. За окном классной комнаты лиственницы далекого леса уже оделись в слепящую зелень, и земля сверкала, набухая миллионами капель, и лесные птицы все уже вернулись домой – повесничать и петь. По вечерам деревенский люд копошился у себя в огородах, высаживая фасоль, и казалось, что ради этих неотложных дел и ради тех, что возникли (одновременно с высадкой фасоли) у слизняков, у почек, у птиц, у ягнят, – все живое, словно по сговору, высыпало наружу.
– Так в кого бы ты хотел превратиться? – спросил Мерлин.
Варт выглянул в окно, прислушиваясь к повторенной дважды чистой песенке дрозда. Он сказал:
– Я уже был однажды птицей, но только ночью, в кречатне, а полетать мне так и не довелось. Даже при том, что не следует дважды делать одного и того же урока, как вы считаете, – нельзя мне побыть птицей, чтобы и этому научиться?
Его мучила зависть к птицам, которая томит по весне всякого чувствительного человека и доходит порой до таких проявлений, как разорение птичьих гнезд.
– Не вижу к сему никаких препятствий, – сказал чародей. – Почему бы тебе не попробовать полетать нынешней ночью?
– Но ведь ночью они спят.
– Тем больше будет возможностей их разглядеть, не спугнув. Ты мог бы вечером отправиться с Архимедом, он тебе все расскажет о них.
– Ты это сделаешь, Архимед?
– С наслаждением, – ответил Архимед. – Я и сам не прочь малость прогуляться.
– А ты знаешь, – спросил Варт, думая о дрозде, – почему птицы поют и как? Это что, их язык?
– Разумеется, язык. Не богатый язык, не такой, как у человека, но все же довольно развитый.
– Гилберт Уайт, – сказал Мерлин, – заметил или еще заметит, это уж как вам больше нравится, что «язык птиц весьма древен и, как и в других древних разновидностях речи, говорится в нем малое, но подразумевается многое». Где-то у него сказано также, что «грачи в пору кормленья птенцов покушаются иногда – в веселии сердца – запеть, но без большого успеха».
– Грачей я люблю, – сказал Варт. – Странно, но это мои любимые птицы.
– Почему? – спросил Архимед.
– Ну просто они мне нравятся. Мне нравится их дерзость.
– Нерадивые родители, – процитировал Мерлин, пребывавший в ученом расположении, – и дерзкие, распущенные дети.
– Вообще говоря, – задумчиво сказал Архимед, – всем вороньим присуще извращенное чувство юмора.
Варт пояснил:
– Мне нравится, как они наслаждаются полетом. Они не просто летают, как прочие птицы, они летают ради веселья. Особенно приятно смотреть, как они на ночь слетаются к гнездам, гогоча, переругиваясь и пихаясь, словно простонародье. А иногда они переворачиваются на спину и кувыркаются в воздухе, просто смеха ради или же забыв, что они, вообще-то, летят, и принимаясь по-простецки вычесывать блох.
– Они разумные птицы, – сказал Архимед, – несмотря на их низменный юмор. Ты знаешь, они из тех птиц, у которых имеется парламент и общественное устройство.
– Ты хочешь сказать, что у них есть законы?
– Да уж разумеется есть. Каждую осень они слетаются на поле, чтобы их обсудить.
– И каковы же эти законы?
– Ну как тебе сказать, – законы о защите грачиного гнездовья, о браке и тому подобные. Запрещается, например, вступать в брак вне гнездовья, а уж если ты утрачиваешь всякое чувство приличия и приводишь себе чернявую девицу из соседнего поселения, то все раздирают твое гнездо на кусочки, едва ты его построишь. Тебя вынуждают переселиться в пригород, вот потому-то вокруг каждого грачиного гнездовища на нескольких деревьях непременно видны отдельные гнезда.
– И что мне еще в них нравится, – сказал Варт, – это их пылкость. Они, может быть, и воры, и склонны к дурацким розыгрышам, и скандалят, и задирают друг друга, при этом вопя во все горло, а все же у них хватает отваги всей оравой наваливаться на врага. Потому что, даже если вас целая стая, все же, по-моему, чтобы напасть на ястреба, требуется отвага. И даже атакуя его, они продолжают валять дурака.
Вепря разделали, собак наградили, и загонщики, стоя кружками и беседуя (сесть на снег они не могли, потому что тогда бы намокли), съели провизию, принесенную девушками в корзинках. Пробили небольшой бочонок вина, прихваченный предусмотрительным сэром Эктором, и все как следует выпили. Ноги вепря связали, просунули между ними кол, двое мужчин взвалили его на плечи. Вильям Твайти отошел в сторонку и со всем вежеством протрубил отбой.
Именно в этот миг вернулся Король Пеллинор. Еще до того как его стало видно, все услыхали, как он ломает кусты и взывает: «Скорее, скорее! Сюда! Случилось самое страшное!» Он театрально возник на краю поляны именно в ту минуту, когда потревоженная ветка, чье бремя оказалось слишком тяжелым, обрушила ему на голову что-то около центнера снега. Но Король Пеллинор этого даже и не заметил. Он выкарабкался из сугроба, не обратив на него никакого внимания, и воззвал:
– Скорее, скорее!
– Что такое, Пеллинор? – прокричал сэр Эктор.
– Ох, скорее сюда, – крикнул Король и, помраченно поворотясь, снова исчез в лесу.
– Как по-вашему, – поинтересовался сэр Эктор, – с ним все в порядке?
– Возбудимая натура, – сказал сэр Груммор, – весьма.
– Пойдемте-ка поглядим, что он там делает.
И вся процессия неторопливо двинулась в сторону Короля Пеллинора, повторяя по свежим следам в снегу его беспорядочные метания.
Их ожидало зрелище, к которому они не были готовы. В мертвых кустах можжевельника сидел Король Пеллинор, и по лицу его потоком струились слезы. А на коленях его покоилась огромная змеиная голова, и он ее гладил. По другую сторону головы тянулось долгое, тощее, желтое, покрытое пятнами тело. Завершалось оно подобием львиных лап с оленьими голенями.
– Ну что ты, ну что? – говорил Король Пеллинор. – Я же не думал навсегда тебя бросить. Мне хотелось хоть немного поспать на перине, вот и все. Я бы вернулся, правда, обязательно бы вернулся. Ох, ну не умирай же, Зверюга, что ж ты меня совсем без катышей оставишь?
Увидевши сэра Эктора, Король принялся командовать. Отчаяние придало ему властности.
– Ну же, сэр Эктор, – воскликнул он, – что ж вы стоите, как дурачок? Немедля тащите сюда ваш бочонок с вином.
Притащили бочонок и, не скупясь, налили Искомой Звери вина.
– Несчастное создание, – разгневанно говорил Король Пеллинор. – Оно зачахло, просто зачахло оттого, что никто не проявлял к нему интереса. Как я мог столько времени оставаться у сэра Груммора и ни разу не вспомнить о моей доброй, старой Зверушке – ума не приложу! Вы только посмотрите на ее ребра, посмотрите. Словно обручи на бочке. Лежит в снегу, одна-одинешенька, утратив всякую волю к жизни. Давай-ка, Зверь, поднимись, попробуй сделать еще глоточек. Это тебе поможет. Развалился на перине, – добавил безжалостный монарх, испепеляя взглядом сэра Груммора, – как, как деточка малая!
– Но как же вы – как же вы ее отыскали? – запинаясь, спросил сэр Эктор.
– Случайно наткнулся. Вам надо спасибо сказать, хоть и не за что. Носятся тут, как орава придурков, и лупят друг друга мечами по спинам. Случайно наткнулся вот здесь, прямо в кустах. Лежит, – спина, бедная, вся в снегу, в глазах слезы, и в целом свете никому до нее нет дела. Вот что значит неправильный образ жизни. То ли дело прежде! Вставали мы с ней в одно время, всегда в один час выходили на охоту, а в половине одиннадцатого – спать. А что теперь – взгляните на нее. Превратилась в развалину, и это вы будете виноваты, если она умрет. Вы и ваша постель.
– Однако, Пеллинор! – сказал сэр Груммор…
– Заткнитесь! – мгновенно ответил Король. – И что вы стоите тут дурак дураком. Делайте что-нибудь. Добудьте еще один кол, чтобы мы смогли донести старушку Глатисанту до дома. Вы-то что же, Эктор, – совсем уже разумения лишились? Все, что нам требуется, это снести ее домой и уложить на кухне, у очага. Отправьте кого-нибудь вперед, пусть приготовят хлеба и молока. А вы, Твайти, или как вы там предпочитаете зваться, перестаньте тютькаться с вашей дудкой, бегите к дому и скажите, пусть согреют несколько одеял. И когда мы придем домой, – закончил Король Пеллинор, – мы ее первым делом накормим до отвала для укрепления сил, а поутру, если она оправится, я ей дам форы пару часов – и вперед, к старой жизни. Как насчет этого, а, Глатисантушка? Твое дело улепетывать, мое – догонять. Подите сюда, Робин Гуд, или как вас там, – вы небось думали, я не знаю, – все я знаю, будет уж вам опираться на лук с видом этакого нерадивого следопыта. Давайте, голубчик, встряхнитесь, и пусть этот свихнувшийся на мускулатуре сержант пособит вам ее нести. Ну, подняли, да полегче. Вперед, обормоты, да смотрите у меня, не споткнитесь. Пуховые подушки, «дачи», надо же! Детский лепет! Давайте-давайте, двигайтесь, вперед, шагом марш! Головы у вас пуховые, вот это как называется!
– Что же до вас, Груммор, – прибавил Король уже после того, как закончил, – можете сами влезть в вашу постель, накрыться периной и задохнуться!
17
– По-моему, – сказал Мерлин, как-то под вечер взглянув на Варта поверх очков, – тебе самое время получить еще одну порцию образования. Я хочу сказать, Время-то уходит.
Дело было ранней весной, и все, что виделось из окна, казалось прекрасным. Зимний покров сошел и увлек за собой сэра Груммора, мастера Твайти, Короля Пеллинора и Искомого Зверя, – последний под воздействием доброты, молока и хлеба поправился. Он ускакал в снега, всем своим видом выказывая благодарность, а два часа спустя за ним последовал взволнованный Король, и зрители на зубчатых стенах наблюдали за тем, как Зверь, достигнув границы ловчего поля, принялся с большой изобретательностью запутывать следы на снегу. Он то бежал задом, то отпрыгивал в сторону футов на двадцать, то хвостом заметал отпечатки, то отползал вбок, цепляясь за нижние ветви деревьев, – словом, с явным наслаждением проделывал множество разных фокусов. Видели они и Короля Пеллинора, который, пока все это длилось, стоял, исправно зажмуря глаза и считая до десяти тысяч, а потом, добравшись до трудного места, совершенно запутался и в конце концов ускакал галопом не в ту сторону, волоча за собою ищейку.
День был чудесный. За окном классной комнаты лиственницы далекого леса уже оделись в слепящую зелень, и земля сверкала, набухая миллионами капель, и лесные птицы все уже вернулись домой – повесничать и петь. По вечерам деревенский люд копошился у себя в огородах, высаживая фасоль, и казалось, что ради этих неотложных дел и ради тех, что возникли (одновременно с высадкой фасоли) у слизняков, у почек, у птиц, у ягнят, – все живое, словно по сговору, высыпало наружу.
– Так в кого бы ты хотел превратиться? – спросил Мерлин.
Варт выглянул в окно, прислушиваясь к повторенной дважды чистой песенке дрозда. Он сказал:
– Я уже был однажды птицей, но только ночью, в кречатне, а полетать мне так и не довелось. Даже при том, что не следует дважды делать одного и того же урока, как вы считаете, – нельзя мне побыть птицей, чтобы и этому научиться?
Его мучила зависть к птицам, которая томит по весне всякого чувствительного человека и доходит порой до таких проявлений, как разорение птичьих гнезд.
– Не вижу к сему никаких препятствий, – сказал чародей. – Почему бы тебе не попробовать полетать нынешней ночью?
– Но ведь ночью они спят.
– Тем больше будет возможностей их разглядеть, не спугнув. Ты мог бы вечером отправиться с Архимедом, он тебе все расскажет о них.
– Ты это сделаешь, Архимед?
– С наслаждением, – ответил Архимед. – Я и сам не прочь малость прогуляться.
– А ты знаешь, – спросил Варт, думая о дрозде, – почему птицы поют и как? Это что, их язык?
– Разумеется, язык. Не богатый язык, не такой, как у человека, но все же довольно развитый.
– Гилберт Уайт, – сказал Мерлин, – заметил или еще заметит, это уж как вам больше нравится, что «язык птиц весьма древен и, как и в других древних разновидностях речи, говорится в нем малое, но подразумевается многое». Где-то у него сказано также, что «грачи в пору кормленья птенцов покушаются иногда – в веселии сердца – запеть, но без большого успеха».
– Грачей я люблю, – сказал Варт. – Странно, но это мои любимые птицы.
– Почему? – спросил Архимед.
– Ну просто они мне нравятся. Мне нравится их дерзость.
– Нерадивые родители, – процитировал Мерлин, пребывавший в ученом расположении, – и дерзкие, распущенные дети.
– Вообще говоря, – задумчиво сказал Архимед, – всем вороньим присуще извращенное чувство юмора.
Варт пояснил:
– Мне нравится, как они наслаждаются полетом. Они не просто летают, как прочие птицы, они летают ради веселья. Особенно приятно смотреть, как они на ночь слетаются к гнездам, гогоча, переругиваясь и пихаясь, словно простонародье. А иногда они переворачиваются на спину и кувыркаются в воздухе, просто смеха ради или же забыв, что они, вообще-то, летят, и принимаясь по-простецки вычесывать блох.
– Они разумные птицы, – сказал Архимед, – несмотря на их низменный юмор. Ты знаешь, они из тех птиц, у которых имеется парламент и общественное устройство.
– Ты хочешь сказать, что у них есть законы?
– Да уж разумеется есть. Каждую осень они слетаются на поле, чтобы их обсудить.
– И каковы же эти законы?
– Ну как тебе сказать, – законы о защите грачиного гнездовья, о браке и тому подобные. Запрещается, например, вступать в брак вне гнездовья, а уж если ты утрачиваешь всякое чувство приличия и приводишь себе чернявую девицу из соседнего поселения, то все раздирают твое гнездо на кусочки, едва ты его построишь. Тебя вынуждают переселиться в пригород, вот потому-то вокруг каждого грачиного гнездовища на нескольких деревьях непременно видны отдельные гнезда.
– И что мне еще в них нравится, – сказал Варт, – это их пылкость. Они, может быть, и воры, и склонны к дурацким розыгрышам, и скандалят, и задирают друг друга, при этом вопя во все горло, а все же у них хватает отваги всей оравой наваливаться на врага. Потому что, даже если вас целая стая, все же, по-моему, чтобы напасть на ястреба, требуется отвага. И даже атакуя его, они продолжают валять дурака.