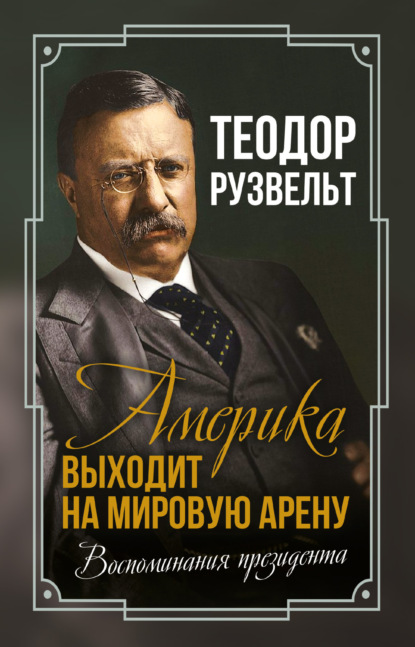По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Америка выходит на мировую арену. Воспоминания президента
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дополнительным элементом в моем случае был тот факт, что во время пребывания в Египте я внезапно начал расти. Поскольку выше по Нилу не было портных, когда я вернулся в Каир, мне понадобился новый наряд.
Когда мы добрались до Дрездена, нас, младших детей, оставили на лето в доме герра Минквица, члена то ли муниципального, то ли саксонского правительства – я забыл, какого именно. Мы надеялись, что таким образом мы приобретем некоторые знания немецкого языка и литературы.
Они были самой доброй семьей, какую только можно себе представить. Я никогда не забуду неутомимое терпение двух дочерей. Отец и мать, а также застенчивый, худой двоюродный брат-студент, живший в квартире, были не менее добры. Выезжая за город, я усердно собирал образцы и оживлял дом ежами и другими мелкими животными и рептилиями, которые упорно пытались выбраться из частично закрытых ящиков бюро.
Двое сыновей были очаровательными студентами Лейпцигского университета, оба принадлежали к дуэльному корпусу и, как следствие, их лица были украшены шрамами. Одного из них, знаменитого фехтовальщика, звали Дер Роте Херцог (Красный герцог), а другого при каждом удобном случае звали герр Назехорн (Сэр Носорог), поскольку кончик его носа был отрезан на дуэли и пришит снова.
Я выучил здесь много немецкого, помимо своей воли, и, прежде всего, я был очарован Нибелунгами. Немецкая проза никогда не давалась мне по-настоящему легко в том смысле, в каком давалась французская, но немецкая поэзия волновала меня не меньше, чем английская.
С того времени и по сей день было бы совершенно невозможно заставить меня почувствовать, что немцы на самом деле иностранцы. Привязанность, Gemuthlichkeit (качество, которое не может быть точно передано ни одним английским словом), способность к тяжелой работе, чувство долга, восторг от изучения литературы и науки, гордость за новую Германию, более чем добрый и дружеский интерес к трем странным детям – все это проявления немецкого характера и немецкой семейной жизни произвели на меня подсознательное впечатление, которое я ни в малейшей степени не определил в то время, но которое все еще очень живо сорок лет спустя.
Напряженная жизнь
Когда я вернулся в Америку в возрасте пятнадцати лет, я начал серьезно учиться, чтобы поступить в Гарвард под руководством мистера Артура Катлера, который позже основал школу Катлера в Нью-Йорке. Я не мог ходить в школу, потому что по некоторым предметам знал намного меньше, чем большинство мальчиков моего возраста, а по другим – намного больше. В естественных науках, истории и географии, а также в неожиданных частях немецкого и французского языков я был силен, но прискорбно слаб в латыни, греческом и математике.
Мой дед построил свой летний дом в Ойстер-Бей за несколько лет до этого, и теперь отец сделал Ойстер-Бей летним домом для своей семьи. Параллельно с подготовкой к поступлению в колледж я занимался практической изучением естественной истории. Я работал с большим усердием, чем с умом или успехом, и сделал очень мало дополнений к сумме человеческих знаний; но и по сей день можно найти некоторые малоизвестные орнитологические публикации, в которых записаны такие вещи, как, например, то, что в одном случае рыба-ворона, а в другом ипсвичский воробей, были получены неким Теодором Рузвельтом-младшим. в Ойстер-Бей, на берегу пролива Лонг-Айленд.
Осенью 1876 года я поступил в Гарвард, который окончил в 1880 году. Мне очень понравился колледж, и я уверен, что он пошел мне на пользу, но только в общем плане, потому что в моей реальной учебе было очень мало того, что помогло мне в дальнейшей жизни. Моя неспособность, возможно, была частично вызвана тем, что я не проявлял интереса к предметам.
Перед тем, как покинуть Гарвард, я уже написал одну или две главы книги, которую впоследствии опубликовал, о морской войне 1812 года. Эти главы были настолько сухими, что по сравнению с ними словарь показался бы легким чтением.
Я был недостаточно развит, чтобы заставить себя проявлять разумный интерес к некоторым предметам, которые мне поручали – например, к характеру Гракхов. Очень умный и прилежный парень, без сомнения, сделал бы это, но лично я дорос до этого конкретного предмета только много лет спустя. Действия фрегатов и шлюпов между американскими и британскими морскими тиграми 1812 года были гораздо более доступны моему пониманию. Я уныло работал над Гракхами, но лишь потому, что должен был; мой добросовестный профессор с достойным лучшего применения упорством тащил меня по теме изо всех сил, но я был на редкость идееотталкивающим.
В то время у меня и в мыслях не было заниматься общественной деятельностью, я никогда не изучал ораторское искусство и не практиковался в дебатах. Лично я не испытываю ни малейшей симпатии к дискуссионным состязаниям, в которых каждой стороне произвольно присваивается определенное предложение и приказывается поддерживать его без малейшей ссылки на то, верят ли те, кто его поддерживает, в него или нет.
Я знаю, что при нашей системе это необходимо для юристов, но я решительно не верю в это в отношении общего обсуждения политических, социальных и экономических вопросов. Что нам нужно, так это выпустить из наших колледжей молодых людей с горячими убеждениями в правоте своей стороны, а не молодых людей, которые могут привести веские аргументы в пользу того, что правильно или неправильно, в зависимости от их интересов.
Нынешний метод ведения дебатов на такие темы, как «Наша колониальная политика», или «Необходимость военно-морского флота», или «Надлежащая позиция судов в конституционных вопросах», поощряет именно неправильное отношение среди тех, кто принимает в них участие. Нет никаких усилий, чтобы привить искренность и силу убеждения. Напротив, конечный результат состоит в том, чтобы заставить соперников почувствовать, что их убеждения не имеют ничего общего с их аргументами.
Мне жаль, что я не изучал ораторское искусство в колледже; но я чрезвычайно рад, что не принимал участия в дебатах того типа, в которых акцент делается не на том, чтобы заставить оратора правильно мыслить, а на том, чтобы заставить его бойко говорить в пользу своей стороны без оглядки на убеждения.
* * *
Я был достаточно хорошим учеником в колледже – насколько я помню, чуть ли не в десяти процентах лучших в своем классе, хотя не уверен, означает ли это десять процентов от общего числа поступивших или только тех, кто закончил.
Мои главные интересы были научными. Когда я поступил в колледж, я был увлечен естественной историей на открытом воздухе, и мои амбиции влекли меня стать ученым. Мой отец с самых ранних дней внушал мне, что я должен работать и прокладывать свой собственный путь в мире, и я всегда предполагал, что это означает, что я должен заняться бизнесом. Но на первом курсе (он умер, когда я был второкурсником) он сказал мне, что если я хочу стать ученым, я могу это сделать. Он объяснил, что я должен быть уверен, что я действительно очень хочу заниматься научной работой, потому что, если я займусь этим, я должен сделать серьезную карьеру, что он заработал достаточно денег, чтобы позволить мне сделать такую карьеру, но я не должен мечтать о том, чтобы заниматься этим как дилетант.
Он также дал мне совет, который я всегда помнил, а именно: если я не собираюсь зарабатывать деньги, я не должен их и транжирить. Как он выразился, я должен был поддерживать постоянную дробь, и если я не смог увеличить числитель, тогда я должен уменьшить знаменатель. Другими словами, если бы я занялся научной карьерой, я должен определенно отказаться от всех мыслей об удовольствиях, которые могут сопровождать карьеру зарабатывания денег, и должен найти свои удовольствия в другом месте.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: