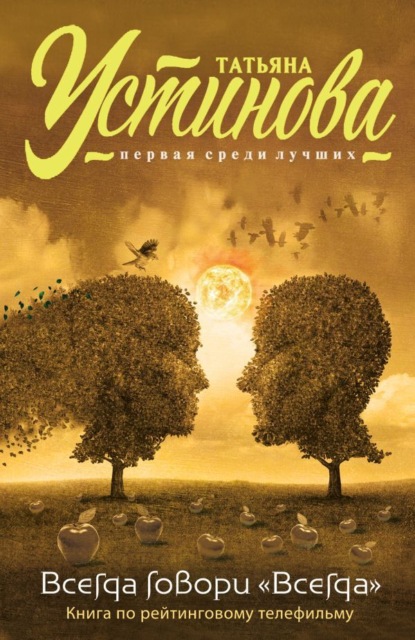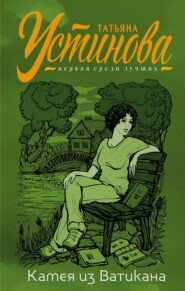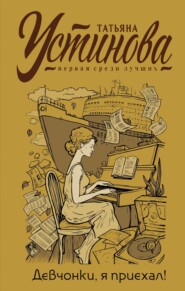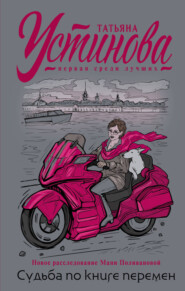По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всегда говори «всегда»
Серия
Год написания книги
2010
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ольга на рынок всегда как на праздник ходила. Стас только плечами пожимал – хорош праздник, репу да картошку выбирать. А ей нравилось. И репу выбирать – желтую, крутобокую, и картошку – с прозрачной красной кожурой, и глянцевито блестящие яблоки, и розовато-золотистый лук…
Ольга направилась к лотку с дынями – яркими, душистыми, от одного взгляда на эти дыни настроение поднималось. На ощупь дыни были шершавые и чуть-чуть теплые, будто их только-только сняли с бахчи. Она принялась выбирать дыню, приподнимая и похлопывая каждую по спинке, когда кто-то аккуратно, но крепко взял ее за локоть. Ольга ойкнула и выронила дыню обратно на прилавок.
– Оленька, бога ради, простите старика. Я вас напугал.
Ольга улыбнулась. И чего она перепугалась? Это всего лишь Григорий Матвеевич, ее старенький учитель рисования.
Григорий Матвеевич пришел к ним в школу вести уроки рисования, когда Ольга была в пятом классе. Прежняя учительница вышла замуж и уехала к мужу на родину. Куда-то то ли в Кировоградскую область, то ли в Краснодарский край. На следующем уроке вместо нее в класс вошел пожилой мужчина со встрепанной седой шевелюрой. Он был похож на взъерошенного задиристого воробья.
– Меня зовут Григорий Матвеевич, – сообщил он. – Я ваш новый учитель рисования.
Григорий Матвеевич в то время работал художником в местном Доме культуры и рисование в школе вел по совместительству. Он говорил с пятиклассниками как со взрослыми, на уроках рассказывал про то, чем импрессионизм отличается от авангардизма, читал вслух переписку Гогена с Ван Гогом, объяснял про композицию и перспективу. В классе зевали, а Ольга слушала, как завороженная. Рисование стало ее любимым предметом. Она мечтала получить в подарок на день рождения новые краски, после школы бежала в книжный и подолгу торчала там, листая альбомы репродукций (продавщицы привыкли, стали ее узнавать и не гоняли). Однажды, после того, как Григорий Матвеевич рассказал им про художника Федулова, который сильно бедствовал и не имел достаточно денег, чтобы купить хлеба и заплатить за квартиру, Ольга расплакалась прямо на уроке. Весь класс над ней смеялся, но она ничего не могла с собой поделать – уж очень жаль было художника.
Как-то к Восьмому марта классная руководительница велела им подготовить тематическую выставку. По замыслу классной, каждый ученик должен был нарисовать портрет мамы, а потом все эти портреты вывесят на стенде в вестибюле, и родители будут любоваться творчеством своих отпрысков.
Маму рисовали весь урок. Ольгина соседка по парте, Светка, старательно выводила золотые кудри на голове человечка-огуречка в юбке, от усердия высунув кончик языка. Ольга испортила листов десять, но маму нарисовать так и не смогла. Не выходило у нее похоже. Все казалось, что мама получается какая-то недостаточно красивая и недостаточно добрая… Самым удачным рисунком, по мнению Ольги, был тот, на котором вместо человека с руками-палочками и копной кудрей были чашка, букет цветов и книга. Светка, заглянув Ольге через плечо, выкатила глаза:
– Ты что, это сдавать собираешься?
Ольга кивнула. Светка вытаращилась еще больше:
– Ты чего?! Нельзя! Нам велели маму рисовать, специально к Восьмому марта! А у тебя тут ее нет! Только книжка какая-то! Тебе двойку влепят!
Ольга подумала, что Светка права и двойку действительно влепят, потому что мамы на картинке нет. Она совсем было уже собралась смять рисунок и сунуть в портфель, а потом выбросить где-нибудь в туалете. Но тут по рядам пошел Григорий Матвеевич собирать работы, и Ольга ничего не успела сделать. Учитель взял позорный рисунок со стола и сунул в общую пачку.
На следующий урок Ольга идти не хотела. Боялась, что учитель будет ее ругать. А еще больше боялась, что все снова станут над ней смеяться. У нее даже живот заболел, так было страшно. Она пожаловалась маме, но та сказала, что надо уметь преодолевать трудности, дала Ольге таблетку но-шпы и отправила в школу.
Урок прошел как обычно, хотя Ольга сидела словно на иголках. Григорий Матвеевич рассказывал о купце Третьякове, основавшем в Москве галерею, а потом они рисовали грушу на тарелке. Ольга было уже решила, что пронесло, но после звонка, когда все кинулись вон из класса, Григорий Матвеевич поманил ее пальцем:
– Оля! Задержись на минуточку!
Они остались вдвоем в пустом классе. Учитель вытащил из пачки Ольгин рисунок.
– Твой?
Ольга залилась краской и молча кивнула. Ей хотелось провалиться сквозь землю.
– У вас было задание нарисовать маму. Почему ты нарисовала именно это? Чашку, букет, книгу?
– У меня не получилось похоже… – тихо сказала Ольга.
Как объяснить, что при мысли о маме в голове сразу возникает образ: на столе – чашка кофе и цветы… Они пахнут, и от этого в доме как будто бы лето. И открытая книга на столе – перед сном мама будет читать Ольге про приключения мушкетеров. Она не могла всего этого сказать – просто чувствовала.
– Извините, – промямлила Ольга. – Я перерисую…
– Не за что извиняться! Ну-ка, погляди на меня!
Ольга подняла глаза и увидела, что Григорий Матвеевич улыбается.
– Слышишь? Ничего не нужно перерисовывать! Это самый лучший рисунок из всего класса. Знаешь, что я понял, когда смотрел на него? Что мама очень тебя любит, а ты ее. Тебе удалось это передать.
После этого Григорий Матвеевич стал к Ольге присматриваться и вскоре пригласил заниматься рисованием дополнительно, отдельно от всего класса. Он пришел к ним домой, поговорил с мамой, и после Нового года Ольга стала брать уроки рисования три раза в неделю. На день рождения мама подарила ей настоящий мольберт и коробку красок «Нева» в тюбиках, которых не было в магазинах, и бог знает через кого и как мама эти краски достала.
В старших классах все девчонки ходили на танцы, в дискотеку и кафешку на проспекте Ленина, а Ольга продолжала заниматься рисованием и ни за что не променяла бы эти уроки ни на какую дискотеку. Одноклассницы звали ее гулять, а она отнекивалась – не могу, мне на этюды надо. Девчонки из-за этих уроков в конце концов стали считать ее не то чтобы совсем дурочкой, но странноватой. Если бы Ольгу заставляли заниматься рисованием – тогда все понятно. Вон Алку заставляют на музыку ходить, а Илонку – на английский. Попробуй пропусти занятие – живо получишь от матери нагоняй, и не будет тебе ни дискотеки, ни новой кофточки, ни карманных денег. Но Ольга на свои уроки рисования ходила добровольно. Этого девчонки понять не могли.
…– Нисколько вы меня не напугали, Григорий Матвеевич, просто неделя суматошная выдалась, нервы шалят.
Неделя действительно выдалась суматошная – надо было сдавать баланс, готовиться с Мишкой к контрольной по математике, да еще Машка опять застудила горло и после утренника несколько дней сидела дома, больная и несчастная. Но вся эта суматоха к нервам не имела ровно никакого отношения. Вся эта суматоха была обычной, будничной, это была та самая Ольгина жизнь, которую она так любила. И балансы сводить любила, и примеры с Мишкой решать. Не любила Машкины ангины, конечно. Но ангину она умела лечить. И в нервозность по этому поводу не впадала.
Дело было в странном, почти неуловимом предощущении беды, с которым она жила последние несколько дней. Ольга убеждала себя, что все в порядке, но смутное беспокойство нет-нет да и высовывало змеиную головку и тихонько шипело – думаешшшь, ты такая везучая? Думаешшшь, с тобой не может приключиться беды?
Позавчера на сервис снова приезжали кожаные парни и о чем-то долго говорили со Стасом. Стас после этого весь вечер ходил хмурый, дома с Ольгой не разговаривал, поужинал и завалился на диван перед телевизором. А когда она спросила, кто это был, ответил, что никто это не был и вообще он устал. Сегодня уехал ни свет ни заря…
– От нервов, Олечка, первейшее средство – валериана, – сообщил Григорий Матвеевич. – Попробуйте, уверяю вас: все как рукой снимет!
– Непременно попробую.
Ольга улыбнулась, взяла Григория Матвеевича под руку:
– Как вы? Я что-то забегалась, все собираюсь позвонить, и все никак…
– Что мне, старику, сделается? Все у меня в порядке. Расскажите лучше про себя. Как супруг? Ребята?
– Они у меня молодцы.
– Ну-с, каков поп, таков и приход. То есть не поп, конечно, а вы, Оленька. Рисуете?
– Что вы, Григорий Матвеевич, когда мне! И на работу надо, и к свекрови… Вот фотографирую только.
Григорий Матвеевич нахмурился:
– Фотография – хорошее дело, но этого мало, Оленька, мало! У вас талант! А вы смеете отговариваться. Вы – лучшая из моих учениц!
– Когда это было… Сто лет прошло, а вы все вспоминаете. У меня сейчас и таланта, наверное, никакого не осталось. Ничего из меня не вышло…
Григорий Матвеевич всплеснул руками:
– Что она говорит, боже мой, что она говорит! Сколько вам лет, девочка? Тридцать?
– Тридцать четыре.
– Ребенок! Младенец! И смеет говорить – не вышло! Мне скоро восемьдесят, и я все еще… надеюсь.
Григорий Матвеевич всегда был большим романтиком. Увлекшись живописью в ранней молодости, он окончил Строгановское училище, участвовал в выставке молодых художников, а потом в одночасье все бросил и переехал из Москвы в захолустный, ничем не примечательный городишко.
Ольге это было странно. Нет, она любила свой город, но Москва – это же Москва, это миллиард возможностей, музеи, галереи, выставки, Дом художников! Сама Ольга не думала, что когда-нибудь решилась бы уехать в такой огромный, суматошный, сложный город. Она была трусихой и домоседкой. Но Григорий Матвеевич – совсем другое дело. Да и Москва ему не чужая. Он там родился, вырос, училище окончил…
Как-то раз Ольга спросила: почему? Григорий Матвеевич выпустил колечко дыма в потолок, достал с полки альбом Сурикова, раскрыл, показал Ольге картину. На картине ничего особенного вроде бы не было – церковка, береза, грачи… Но во всем этом было столько красоты, что хотелось смотреть и смотреть.
Ольга направилась к лотку с дынями – яркими, душистыми, от одного взгляда на эти дыни настроение поднималось. На ощупь дыни были шершавые и чуть-чуть теплые, будто их только-только сняли с бахчи. Она принялась выбирать дыню, приподнимая и похлопывая каждую по спинке, когда кто-то аккуратно, но крепко взял ее за локоть. Ольга ойкнула и выронила дыню обратно на прилавок.
– Оленька, бога ради, простите старика. Я вас напугал.
Ольга улыбнулась. И чего она перепугалась? Это всего лишь Григорий Матвеевич, ее старенький учитель рисования.
Григорий Матвеевич пришел к ним в школу вести уроки рисования, когда Ольга была в пятом классе. Прежняя учительница вышла замуж и уехала к мужу на родину. Куда-то то ли в Кировоградскую область, то ли в Краснодарский край. На следующем уроке вместо нее в класс вошел пожилой мужчина со встрепанной седой шевелюрой. Он был похож на взъерошенного задиристого воробья.
– Меня зовут Григорий Матвеевич, – сообщил он. – Я ваш новый учитель рисования.
Григорий Матвеевич в то время работал художником в местном Доме культуры и рисование в школе вел по совместительству. Он говорил с пятиклассниками как со взрослыми, на уроках рассказывал про то, чем импрессионизм отличается от авангардизма, читал вслух переписку Гогена с Ван Гогом, объяснял про композицию и перспективу. В классе зевали, а Ольга слушала, как завороженная. Рисование стало ее любимым предметом. Она мечтала получить в подарок на день рождения новые краски, после школы бежала в книжный и подолгу торчала там, листая альбомы репродукций (продавщицы привыкли, стали ее узнавать и не гоняли). Однажды, после того, как Григорий Матвеевич рассказал им про художника Федулова, который сильно бедствовал и не имел достаточно денег, чтобы купить хлеба и заплатить за квартиру, Ольга расплакалась прямо на уроке. Весь класс над ней смеялся, но она ничего не могла с собой поделать – уж очень жаль было художника.
Как-то к Восьмому марта классная руководительница велела им подготовить тематическую выставку. По замыслу классной, каждый ученик должен был нарисовать портрет мамы, а потом все эти портреты вывесят на стенде в вестибюле, и родители будут любоваться творчеством своих отпрысков.
Маму рисовали весь урок. Ольгина соседка по парте, Светка, старательно выводила золотые кудри на голове человечка-огуречка в юбке, от усердия высунув кончик языка. Ольга испортила листов десять, но маму нарисовать так и не смогла. Не выходило у нее похоже. Все казалось, что мама получается какая-то недостаточно красивая и недостаточно добрая… Самым удачным рисунком, по мнению Ольги, был тот, на котором вместо человека с руками-палочками и копной кудрей были чашка, букет цветов и книга. Светка, заглянув Ольге через плечо, выкатила глаза:
– Ты что, это сдавать собираешься?
Ольга кивнула. Светка вытаращилась еще больше:
– Ты чего?! Нельзя! Нам велели маму рисовать, специально к Восьмому марта! А у тебя тут ее нет! Только книжка какая-то! Тебе двойку влепят!
Ольга подумала, что Светка права и двойку действительно влепят, потому что мамы на картинке нет. Она совсем было уже собралась смять рисунок и сунуть в портфель, а потом выбросить где-нибудь в туалете. Но тут по рядам пошел Григорий Матвеевич собирать работы, и Ольга ничего не успела сделать. Учитель взял позорный рисунок со стола и сунул в общую пачку.
На следующий урок Ольга идти не хотела. Боялась, что учитель будет ее ругать. А еще больше боялась, что все снова станут над ней смеяться. У нее даже живот заболел, так было страшно. Она пожаловалась маме, но та сказала, что надо уметь преодолевать трудности, дала Ольге таблетку но-шпы и отправила в школу.
Урок прошел как обычно, хотя Ольга сидела словно на иголках. Григорий Матвеевич рассказывал о купце Третьякове, основавшем в Москве галерею, а потом они рисовали грушу на тарелке. Ольга было уже решила, что пронесло, но после звонка, когда все кинулись вон из класса, Григорий Матвеевич поманил ее пальцем:
– Оля! Задержись на минуточку!
Они остались вдвоем в пустом классе. Учитель вытащил из пачки Ольгин рисунок.
– Твой?
Ольга залилась краской и молча кивнула. Ей хотелось провалиться сквозь землю.
– У вас было задание нарисовать маму. Почему ты нарисовала именно это? Чашку, букет, книгу?
– У меня не получилось похоже… – тихо сказала Ольга.
Как объяснить, что при мысли о маме в голове сразу возникает образ: на столе – чашка кофе и цветы… Они пахнут, и от этого в доме как будто бы лето. И открытая книга на столе – перед сном мама будет читать Ольге про приключения мушкетеров. Она не могла всего этого сказать – просто чувствовала.
– Извините, – промямлила Ольга. – Я перерисую…
– Не за что извиняться! Ну-ка, погляди на меня!
Ольга подняла глаза и увидела, что Григорий Матвеевич улыбается.
– Слышишь? Ничего не нужно перерисовывать! Это самый лучший рисунок из всего класса. Знаешь, что я понял, когда смотрел на него? Что мама очень тебя любит, а ты ее. Тебе удалось это передать.
После этого Григорий Матвеевич стал к Ольге присматриваться и вскоре пригласил заниматься рисованием дополнительно, отдельно от всего класса. Он пришел к ним домой, поговорил с мамой, и после Нового года Ольга стала брать уроки рисования три раза в неделю. На день рождения мама подарила ей настоящий мольберт и коробку красок «Нева» в тюбиках, которых не было в магазинах, и бог знает через кого и как мама эти краски достала.
В старших классах все девчонки ходили на танцы, в дискотеку и кафешку на проспекте Ленина, а Ольга продолжала заниматься рисованием и ни за что не променяла бы эти уроки ни на какую дискотеку. Одноклассницы звали ее гулять, а она отнекивалась – не могу, мне на этюды надо. Девчонки из-за этих уроков в конце концов стали считать ее не то чтобы совсем дурочкой, но странноватой. Если бы Ольгу заставляли заниматься рисованием – тогда все понятно. Вон Алку заставляют на музыку ходить, а Илонку – на английский. Попробуй пропусти занятие – живо получишь от матери нагоняй, и не будет тебе ни дискотеки, ни новой кофточки, ни карманных денег. Но Ольга на свои уроки рисования ходила добровольно. Этого девчонки понять не могли.
…– Нисколько вы меня не напугали, Григорий Матвеевич, просто неделя суматошная выдалась, нервы шалят.
Неделя действительно выдалась суматошная – надо было сдавать баланс, готовиться с Мишкой к контрольной по математике, да еще Машка опять застудила горло и после утренника несколько дней сидела дома, больная и несчастная. Но вся эта суматоха к нервам не имела ровно никакого отношения. Вся эта суматоха была обычной, будничной, это была та самая Ольгина жизнь, которую она так любила. И балансы сводить любила, и примеры с Мишкой решать. Не любила Машкины ангины, конечно. Но ангину она умела лечить. И в нервозность по этому поводу не впадала.
Дело было в странном, почти неуловимом предощущении беды, с которым она жила последние несколько дней. Ольга убеждала себя, что все в порядке, но смутное беспокойство нет-нет да и высовывало змеиную головку и тихонько шипело – думаешшшь, ты такая везучая? Думаешшшь, с тобой не может приключиться беды?
Позавчера на сервис снова приезжали кожаные парни и о чем-то долго говорили со Стасом. Стас после этого весь вечер ходил хмурый, дома с Ольгой не разговаривал, поужинал и завалился на диван перед телевизором. А когда она спросила, кто это был, ответил, что никто это не был и вообще он устал. Сегодня уехал ни свет ни заря…
– От нервов, Олечка, первейшее средство – валериана, – сообщил Григорий Матвеевич. – Попробуйте, уверяю вас: все как рукой снимет!
– Непременно попробую.
Ольга улыбнулась, взяла Григория Матвеевича под руку:
– Как вы? Я что-то забегалась, все собираюсь позвонить, и все никак…
– Что мне, старику, сделается? Все у меня в порядке. Расскажите лучше про себя. Как супруг? Ребята?
– Они у меня молодцы.
– Ну-с, каков поп, таков и приход. То есть не поп, конечно, а вы, Оленька. Рисуете?
– Что вы, Григорий Матвеевич, когда мне! И на работу надо, и к свекрови… Вот фотографирую только.
Григорий Матвеевич нахмурился:
– Фотография – хорошее дело, но этого мало, Оленька, мало! У вас талант! А вы смеете отговариваться. Вы – лучшая из моих учениц!
– Когда это было… Сто лет прошло, а вы все вспоминаете. У меня сейчас и таланта, наверное, никакого не осталось. Ничего из меня не вышло…
Григорий Матвеевич всплеснул руками:
– Что она говорит, боже мой, что она говорит! Сколько вам лет, девочка? Тридцать?
– Тридцать четыре.
– Ребенок! Младенец! И смеет говорить – не вышло! Мне скоро восемьдесят, и я все еще… надеюсь.
Григорий Матвеевич всегда был большим романтиком. Увлекшись живописью в ранней молодости, он окончил Строгановское училище, участвовал в выставке молодых художников, а потом в одночасье все бросил и переехал из Москвы в захолустный, ничем не примечательный городишко.
Ольге это было странно. Нет, она любила свой город, но Москва – это же Москва, это миллиард возможностей, музеи, галереи, выставки, Дом художников! Сама Ольга не думала, что когда-нибудь решилась бы уехать в такой огромный, суматошный, сложный город. Она была трусихой и домоседкой. Но Григорий Матвеевич – совсем другое дело. Да и Москва ему не чужая. Он там родился, вырос, училище окончил…
Как-то раз Ольга спросила: почему? Григорий Матвеевич выпустил колечко дыма в потолок, достал с полки альбом Сурикова, раскрыл, показал Ольге картину. На картине ничего особенного вроде бы не было – церковка, береза, грачи… Но во всем этом было столько красоты, что хотелось смотреть и смотреть.