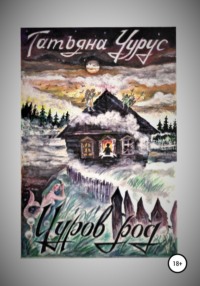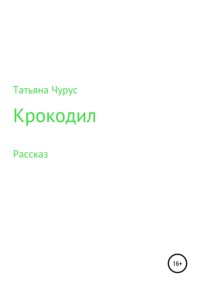Баушкины сказки
– А ну-тко… – и Яков Яковлич, старый ты лыч, сейчас тычет Симушке в личность бумажкими писчими. – Прочтешь мои каракульки? – А наша-т столбом стоит вкопана: в кипу кних ученых взором вперилась, в колбочки-стекляшки мудреные д’ в трубу большущую, родимые матушки! А Яков Яковлич видит то – да толь в бородищу и смехается: а и что не смехаться-то, кады пташ’чка желторотая самолично в силки запархива’т! Опомнилась наша Симушка, ровно встала спросонья с подушки пуховенной, а Яков Яковлич, Чухарёв-то:
– Глянется, мол?
– А то! – И глазищами лупает лапушка на Як’ва на Як’лича.
– Станешь мне помощницей, а, Серафима Саввишна?
– Стану, отец мой, вот истый крест!
– Тады разбирай каракульки д’ пер’пис’вай набело. – Симушка и глянула в писульки заковыристы, а там всё про звезды д’ про иные тела небесные. – То труды мои давешни, Серафима Саввишна, про законы про вселенные. – Гладко сказ’вает про тела-т небесные, а сам слюной исходит, антихресть такой, на тело белое любуется.
Так у их дело-т и сладилось: с утреца, как пробудится Симушка с первым кочетом, сейчас в кабинет – толь ей и видели – и пер’пис’вает каракульки Як’ва Як’лича, что ночами долгими бобыльими мараны про тел небесных коловращение: и пишут, и пишут, изверги, сладу с ими нет! Пер’пис’вает – да листочек к листочку и склад’вает. Яков Яковлич толь и покряхтывает. Вот сложит сколь там листков – вечерять пора: так она сейчас млинков изладит, аль оладьев, аль шанешек. Яков Яковлич толь бородищу поглаж’вает.
А как ноченька подкрадется бедовая – всё одно д’ потому деется: Чухарёвы в три горла позёв’вают – почивать сбираются: кажный на свою сторону сворач’вает – а и Симушка сейчас зевает: уморилась сердечная – роток окрещ’вает, задувает свечечку – и в сон проваливается: а и сон всё тот ж… Вот посыпохивает сном тем сладостным – отворяется дверь еле слышная, на пороге ктой-то чернеется: то Борисушко… И дух захват’вает, потому так подошло, что день деньской не видит Симушка свово сокола: всё за делами д’ за заботами… Чуть забудется – а он уж зацалов’вает ей поцалуями сахарными, ин изнывает тело белое! Цаловать-то цалует – да в сам корень не трогает…
Поперву-т Симушка к отцу Федосею: чуть засветло – сейчас и кидается сповед’ваться. А тот одно твердит: уж не согрешила ль ты, мать моя? Гляди, мол, в подоле принесешь – ввек не отмоешься. Она и не стала ходить: так-то оно сладостней…
Сколь уж там ночей минуло – и не перечесть, а толь и явился Борисушко чернее черного. И уж так цаловал тело белое устами сахарными, уж так в очи девичьи с поволокою загляд’вал глазом масляным… А после шептал на ушко речи шелковые д’ медовые:
– Симушка, моя кровинушка, дозволь хошь разок войду в плоть твою девичью, потому нету боле моей моченьки: пропадаю я… – И трясется что осиною. А наша-т и сама изнывает: уж так жгет унутре огнь пламеньем – а толь грех, он и во сне грех, потому зубы стиснула:
– Смирись, мол, Борюшко, сирая я, мол, деушка. А и кто защитит мене, коль понесу, чреватая? – И отворач’вается…
А наутро вскочила с первым кочетом – и к отцу, к Федосею: отпусти, мол, грехи, батюшко, так и жгут, мол, унутре, что в геенне огненной! А отец что – отец, знай, своё: мол, согрешила, мать моя, – никуды топерь не кинешься. Д’ наказал молитву творить до посинения.
Той каракульки Як’ва Як’лича разбирать – а она причит’вает: мол, прости, Господи, душу грешную – и челом об пол бьет. Яков Яковлич на ту пору и случился д’ не таков: не стал чикаться:
– Уж не чеканукнулась ль ты, мать моя, а, Серафима Саввишна? А то, я гляжу, зачастила ты к Федосею! – Как отрезал! И хватает нашу грешницу за грудки д’ в церкву и тащит к самому батюшку.
А тот откушал, по всему, д’ крошечки с бородищи и отрях’вает. Завидел Як’ва Яклича с Симушкой – и дивуется:
– Эт’ кто эт’, мол, к нам пожаловал? Нешто сам ученый Яков Яковлич? Эт’ ж где эт’, мол, видано, люди добрые? – И разводит руками, и трясет головой.
– Ну будет июродить-то. Ты сказ’вай лучше, пошто девчонку подучиваешь, пошто с панталыку сбиваешь? Аль неймется? Мало тобе Аринушки?
– Эк’ горяч! Поостынь! – И перстом сына блудна окрещ’вает. – Помни, где стоишь! Эт’ ты у собе, в доме Чухаревом, глотку дери, а здесь как-никак божий храм! С чем пожал’вал, сказ’вай: некода мне с тобой лясы точить – дела зовут вышние.
– Ишь ты, вышние… А толь я г’рю, оставь Серафиму Саввишну, а не то… – И сжал кулак Яков Яковлич.
– Не пужай – пужаный! А толь у нас с ей своя стезя! И не суй свой нос в божий промусел! – Яков Яковлич в бородищу и смехается. – Смейся, смейся покуд’ва. Смотрю я, совсем ты о душе-т позабыл за своими телами-т небесными… – Изрек Федосей – и скрылся, толь его и видели. А Яков Яковлич постоял-постоял, помялся с ноги на ногу – и пошел не солоно хлебавши, что кой неприкаянный: резанули не то словеса-т Федосьевы по совести…
С той поры, сказ’вали, и не тронул Симушку: мол, споведаться споведуйся хошь отцу Федосею, хошь черту рыжему – д’ дело разумей. Так и поставили промеж собой: с первым кочетом пробудится – и сейчас в церкву, к отцу, а после каракульки пер’пис’вает черным по белому д’ лист к листу и склад’вает: стоп’чка-т уж большущая! – всё чин чином, всё как у людей. Д’ блинками, ватрушкими умаслива’т, кады вечерять подойдет времечко… А там и ноченька, и сон сладостный… А с утреца верёвочка вьется сызнова…
Так они и жили покуд’ва…
Вот живут. Сели раз завтрикать. Все, Чухаревы-т, как люди завтрикают, – один Яков Яковлич мордуется: что эт’, мол, понаварила – кус в рот нейдет – и тычет Мавре Як’левне. Пущай, мол, Серафима Саввишна домовничит топерича – и сдобрил свою реченьку перчёным словцом. А Мавра:
– Эт’ ты нарочно, мол, девчонку выписал, – криком кричит. – Сживают, мол, со свету, люди добрые. По миру пустит, мол, супостат, потому дом под собе подмял! Ты долю, мол, отдай законную – уйдем, мол, толь нас и видели, гори, мол, всё синим пламеньем. – Да Василей, как про долю-т песнь завела Мавра Як’левна, туды ж: сидит поддак’вает.
Яков Яковлич не стал рядиться да чикаться: сгреб персты в кулак – всю пятерницу как есть – и – на-кося, выкуси! – лыч казал д’ присовокупил словцо вострое что шестым перстом!
– Антихресть! – толь и молвила Мавра Як’левна, д’ прикусила губищу, д’ ширинку скинула латанну-перелатанну, что старе поповой собаки, д’ швырнула Серафиме Саввишне: домовничь, мол, экая, мол, какая девчонка шустрая…
А Яков Яковлич что – Яков Яковлич не стал рядиться да чикаться: скрутил ширинку ту – д’ ка-а-ак накинет на шею Мавре Як’левне, что кобыле хомут, ка-а-ак стянет телеса верёвкими – та, Мавра-т, сказ’вают, ин побелела, ин бельмы выкатила.
– И ключ неси от сундука от Арин’шкина, шельма ты рыжая. – А та и отдышаться не отдышится, потому чует: пришла ейна смертушка, к самому горлу подступила подступом – а всё своё твердит, поперечное:
– Да ты что, Яков Яковлич, режешь без ножа? Опомнись, братец: то ж Арин’шкино приданое! Ты ж сам наказал стеречь! Родимые матушки! – И на Симушку зыркает! – Э-эх, видела б покойница… – И заходится кашлем, потому придушил, душегубец, как есть, и не поперхнулся! А Чухаревы, слышь, сидят, что мыши каки, и не шелохнутся: тяжела рука у Як’ва-т у Як’лича. Одна Симушка дрожит ровно осинушка.
– Врешь, Маврушка! Ты покойницу не трожь, рожа твоя сивая! Не твое, мол, дело собачье! И на кой, мол, ляд сдалось ей приданое во сырой во земле, кады тело белое уж который год как сгрызли червы и не поперхнулись? Неси, мол, ключ, кому г’рю! – Та и понесла, Мавра-т, безропотно, потому куды кинешься?
А Яков Яковлич, как ключ увидал, что чумной кой сделался: сейчас к сундуку заветному – и пошел шерстить приданое, лист к листу сложено в стоп’чки. Вот вымает что, оглядом огляд’вает – и Симушке подкид’вает: а там что полушубочек не полушубочек, там шалочка не шалочка. А и туфлички лаковы, и чулочки гладкие, носи не хочу, – чего толь не напасла Арин’шка, царствие небесное! Да сымай, кричит, Яков-то, Яковлич, ремки старые – рядись, мол, в обновы шелковые, Серафима Саввишна! Разошелся, что легкая в горшке. А Мавра закусила губищу – а сама волчиною на Симушку выгляд’вает.
– Ишь ты, образина старая, нешто на свои телеса натянуть удумала наряды Арин’шкины? – А та толь ширинкою и утирается, потому звезда-т во лбе горит…
А Симушка отродясь и нарядов эт’ких не вид’вала: стоит что глуподурая, глазищами лупает. Глуподурая-т, она глуподурая, а всё одно: женчина… Вот понабрала тряпиц из сундука – да в свою комнатку и завихрилась. Уж сколь там времени минуло, а толь явилась не запылилась пред очами Як’ва Як’лича д’ всей Чухарёвой челяди. Борисушко, слышь, кость большущую, сказ’вали, едва не заглотил – еле и отходили молодца! Василей ровно на кол сел, а Яков Яковлич толь и вымолвил тихохонько:
– Ишь ты, ишшо краше, мол, Арин’шки…
Симушка краской и залилась, что неб’шко розовым заревом, закатное. А Яков Яковлич – толь его и видели – сейчас в комнатку ейную: схватил ремки, что с себе скинула – д’ в печь: гори они синим пламеньем. Симушка-т, сказ’вают, и не опечалилась: до того пришлись ей наряды Арин’шкины.
– На-ко ’от, владей, твое добро! – И влагает, Яков-то, Яковлич, ключ в ейну ладошку влажную. Д’ Василью с Бориском наказ’вает: – Снесите, мол, сундук в покои к Серафиме Саввишне. – Д’ Мавре подмиг’вает: – Что, мол, Сундукевна ты старая, профукала свое приданое? – И в бородищу свищет-смехается. – Д’, слышь, обед не подавай ноне, кулёма ты, – пущай, мол, Серафима Саввишна понаварит борща: да картох кроши поболее – да ишшо кулеша: уж больно уважаю я кулеш – да киселя овсяного… Понаваришь, не то?..
– Понаварю, отец мой, будь покоен: персты обсосёшь, – осмелела Симушка. А тот, Яков-то, Яковлич:
– Да я не толь персты – всю пятерницу, как есть, коль утешишь, в рот возьму.
– А как же каракульки?
– Не простынут – не щи! Какие твои годы – успеется. Без трапезы-т, на пустое брюхо, много ль наперепис’ваешь? – Симушка толь и пшикнула, довольнёшенька. Борис’шко, сказ’вают, надулся что мышь на крупу.
Вот понаварила – д’ понесла: поднос, что с яствием, слышь, весь собой сребряный, ширинка на пышных на бёдр’шках шелковая, платьишко Арин’шкино в обтяж’чку крыжавчато – грудушки ин колышутся: ишь, отростила, не гляди, что шешнадцать годков! По колидору так, зна’шь, идет, д’ в зеркала толь и погляд’вает: а и хороша-а-а-а, истая королевишна! Случился Василей ей: куды, мол, путь дёржишь, девынька, а не поднесть ли кушанья – а сам изловчился д’ за грудушку цоп – и шшупает, ин слюной изошел, чтоб тобе пусто було. А наша-т королевишна – поднос ему под нос – толь и куражится, толь и посмеивается: да нужон, мол, ты мене, пупырушек. Тот, Василей-то, стерпел, а куды кинешься, д’ губищу закусил себе тихохонько, не солоно хлебавши-то: поглядим, мол, ишшо, который кому нужон…
А Симушка толь на плешь ему и поплёв’вает: завей горе веревочкой! Вошла, слышь, в горницу, д’ что госпожа. А Яков Яковлич завидел тело белое д’ пышное, ин носом повёл, потому чует: дух шибко сладостный, терпежу несть.
– Ну, потчуй, что ль, Серафима Саввишна. – Д’ потирает ладошкими, д’ в бородищу смехается. Симушка сейчас и пошла потчевать: а там борщ не борщ, там кулеш не кулеш, там кисель не кисель! Яков Яковлич что с цепи сорвался: в три горла жрет – и не поперхнется. А и Борисушко жрет, ин за ушком трешшит, а и Василей наяривает. Одна Мавра мордуется: корку сосет черствую. Соси, дурища, – Симушки и дела несть: сама понаелась так, что платьишко Арин’шкино по шву трешшит.
Вот поели все кушанья, Чухаревы-то, – Мавра, слышь, толь слюной и изошла – а Яков Яковлич:
– Сведи мене, мол, Серафима Саввишна, – сказ’вает, – в опочивальню: потому чтой-то сон сморил слад’стный опосля эт’кого обеда царского. Ну уж уважила! – И цалует рученьки ейны белые, и кланяется в ноженьки. Та и повела: плывет что павушкой. А Мавра сподтишка змеищей какой и пошип’вает:
– Ишь, мол, титьки свои распустила, бесстыжая! – Так Борисушко, сказ’вают, едва на Як’ва Як’лича не кинулся, толь кулачищи и сжал до сукрови! ’От они где, страстушки-т!
Яков Яковлич, как до опочивальни-т добрел, не стал, слышь, рядиться да чикаться: на постелю, что мешок пустой, шмякнулся – д’ манит эд’к перстом Симушку. Та и задышала что: груд’шки толь ходуном каким и ходют туды-сюды, пышные: и кады округлилась девка? Что щепка пришла! Ох и чудны дела твои, Господи! Так Яков-то Яковлич:
– Не стану я, мол, – г’рит, – рядиться да чикаться. Дюжа справная ты, Серафима Саввишна, больно ладная! Я уж грешным делом подум’вал: плоть моя немощна. Ан нет: увидал тобе – и встала плоть на дыбы ретивая, что у кого у вьюноша! И не обуздать, потому блазнит пламеньем! – А сам смолит своим глазом чёренным, хошь прикуривай, до душеньки до Симушкиной добирается. – Вдохнула силу ты в мене мужску, Серафима Саввишна, моя ты любушка! – А сам говорит да меж тем пугвички на платьишке Арин’шкином расстег’вает, словно ослобождает тело белое из оков стальных. Та толь и застонала бессильная, потому такими усыпал поцалуями полюбовничек, что и темной ноченькой не мнились во сне тем слад’стном!
– Любишь мене, моя гулюшка? – А та толь склонила головушку к ему на плечо безмолвная. – На-ко ’от колечко, моя желанная. – И сымает большущий перстень с пальца мизинного, и надевает его на пальчик Симушкин. Та толь кольцо завидела – сейчас заулыбалась и ну лобызать свово любезного. – Озолочу с ног до головы, моя зазнобушка, на руках всю жизню носить стану, моя звездочка ясная! – И елозит бородищею густой, щетинистой по белым по нежным по грудушкам, и до лона до девичьего добирается. И толь скинул с ей одежды тесные, что сковали прелести пышные, толь взревел что лютый зверь, завидев красу девственну – заскрыпела дверь тихохонько, и нарисовался Василей, сам собою махонькый д’ седенькый…
– Ох! – Толь и выдохнул, толь и прикрылся стыдливо ручонкою. А Яков Яковлич:
– Задавлю, собака! – кричит. И кидается на Василья – тот еле живехонькый и вырвался. Сам еле живехонькый, а туды ж, свое поет:
– У зятька твово, Яков Яковлич, око вмиг станет невидящим, коль долю за дом отдашь! – А Яков Яковлич:
– Дулю тобе, а не долю, песий ты сын! – И кажет лыч зятьку. Тот толь посмеивается.
– Дело хозяйское… Какать хошь… А как я к отцу Федосею навед’юсь, а, Яков Яковлич? Д’ обскажу ему, кой ты блуд творишь на старости-т? – И что мышка в щель: толь его и видели.
– А ну стой, песий сын! – И за грудки зятька, Яков-то Яковлич, – не на того напал! – и запер дверь на семь замков. – Я т’е наведаюсь! – А сам вымает большущий нож – Симушка толь и зажмурилась, под одеялку толь и забилася! – И коль слово, коль полслова вымолвишь, – пеняй на себе. – И ножом тем у виска у Васильева посверкивает. – А про Серафиму Саввишну болтать пустишься – помело твое пустое оттяпаю! Уразумел?
– Как же, Яков Яковлич, уразумел…
– То-то. И заруби собе на носу – а не то я сделаю зарубочку: Жана она мене! Слышь, не то?
– Хороша жана у шурина, д’ толь невенчанна!
– Видит Бог, не хотел я рук марать, да придется, видать! – Глядь, а Яков Яковлич уж и тычет ножом в глотку зятька Василея.
– Постой, шурин, шуткую я! – А сам хорош, кровищей умывается: в три ручьи по брюху текёть!
– Стало, и не вид’вал нич’о, и не слых’вал, и про долю за дом запам’товал?
– Роток на замок, д’ запер зятёк! – И толь покряхт’вает! – Да уж чтоб намертво, Яков Яковлич, залепил денежкой! – И что пес шелудивый в глаза Як’ву Як’личу загляд’вает. Тот толь и плюнул:
– Рожа ты сивая! Нахлебники проклятые! И навязались на мою голову! На, подавись! – И достает из мошны бумажку засаленну, д’ на рот поганый Васильев налеплива’т. – Да Мавру подошли чрез полчасика: пущай кровищу вымоет! Срам один!
Василей покланялся в ножки кормильцу и сгинул себе, А Яков Яковлич сейчас к Симушке:
– Топерва нас, мол, толь смертушка и разлучит, потому наша любовь на кровушке замешана…
Изрек – и сейчас, сказ’вают, на небе-т кабудьто что надтреснуло…
А та, Симушка-т что, ни живехонька ни мертвехонька: стыд прикрыла – и точно мышь кака к себе в комнатку шмыгнула. Мат’шка, причит’вает, и пошто ты мене, мол, покинула, несмышленую… Там ревмя ревет, заливается, там лбом об пол бьет. Бить-то бьет, да сама промеж тем на перстенек погляд’вает, д’ думку каку и подум’вает, а подум’вает небось Серафима-т Саввишна хозяйкою сесть что в доме Чухаревом-то: Яков Яковлич не гляди что старик – сла-а-адкий полюбовничек… И сглотнула слюну… А Борисушко? А что Борисушко-т? Ни кола ни двора, д’ без штанов сидит на шее у Як’ва у Як’лича. И потом Борис’шко-т сонный полюбовничек – тады как Яков Яковлич явственный… И зарделась краскою, что поспелое яблучко. И сейчас дверь скрыпнула: Василей, принесла его нелегкая. Д’, слышь, шея-т что тряпицею кой замотана: сам черт его не берет! – Слышь, Серафима, что ль, Саввишна, можа, и у нас с тобой чего получится, а, жана невенчанна? – А сам, Василей-то, изловчился, шельма ты рыжий, д’ ухватился за грудушки за пышные – шшупает, того и гляди, живьем сожрет: а ты не кажи, шалава ты, кому ни попадя! – Я мужичина-т хоть куды! – Симушка толь зевнула, д’ рукой махнула, д’ перстеньком сверкнула: ступай, мол, собе, и без тобе, мол, тошнехонько, мельтешишь, мол, тут без толку. – А перстенёчек тот, промеж нами будь сказано, с Арин’шки снят, кады она была ишшо тепленька… – А Симушка, ишь, в раж вошла:
– Не пужай, мол, – пуж’ная. Улепёт’вай, мол, восвоясь, Василей… как там тобе по батюшку… А не то покличу Як’ва Як’лича…
– Я-т улепётаю, с мене станется. – А сам на стан на Симушкин любуется, ин трясун взял, до того телом белым хо’ца полак’миться: ишь, губу раскатал! – Да вот как бы тобе не улепётать отсель, Серафима Саввишна. А по батюшку я Василей Кузьмич… – Сказал – и сгинул, толь его и видели…
Повечеряли молчком, Чухаревы-то, точно из-за угла мешком пужаные, – и тую ж ночь почивает Симушка, да чтой-то сон нейдет: уж она маялась-перемаялась, толь под утречко и уторкалась – и сейчас явился Борис’шко, ишшо чернее самого черного!
– Сказ’вают, сошлась ты с дяд’шкой! Его любишь топерича! А как же я, Симушка?
– Да ты что, Борюшко? – И сейчас смекнула, откель смрадом-т несёт. – Нешто поверил, мол, сказкам Васильевым? Отказала я ему: склонял он к блуду мене – ’от и мстит топерь. – Говорит, а сама и не поймет, спросонная, кого любит более тело ейно белое, Бориска аль Як’ва Як’лича. И просыпаться б не просыпалась ввек от сна того слад’стного, и взамуж за Як’ва Як’лича страсть как хочется, а особливо сесть хозяюшкой в доме-т, в Чухаревом-то! А сама, бедовая, в объятья Борискины в жаркие, что в пропастину каку, проваливается: пропадать, так пропадом! А тот зацалов’вает в усмерть тело белое д’ на ушко и нашепт’вает:
– А ты докажи, что не творишь блуд с дяд’шкой – дозволь в плоть войти хошь разок! – А Симушка, кумушка ты шустрая, промеж себя так и кумекает: а каб и дозволить, мол, то ж во сне! Я Як’ву Як’личу, мол, в явь дать полак’миться д’ понесть от его – тады, мол, уж никуды не денется! И до того ей стало слад’стно, что, сказ’вают, ин разверзлись хляби небесные…
И толь раскрыла ворота Симушка, что ведут в лоно заветное, – дверь тихохонько и скрыпнула…
– ’От они иде, голубчики! – И застило бел свет пред Симушкой: сейчас очнулась от сна от слад’стного… Борис’шко… живехонькый… Грешница, страшная грешница… И Мавра голосит Як’левна… И Яков Яковлич в однем исподнем, в руке свечечка подраг’вает…
– Пригрел на груди змеюку подколодную! – А сам слезьми обливается! А Василей, слышь, стоит, что в воду глядит. – Проваливай, – кричит в крик, – чтоб глаза мои тобе не видели! Василей, завтрева ж свези ей восвоясь, пущай, мол, Митревна покуражится! – А сам ревмя ревет – и не стыдается, бедовая ты головушка, эк’ убивается, по бородище толь в три ручьи и текёть, д’ воском на земь льет, потому свечечка в руке ин отпляс’вает. – А ты, песий ты сын, ступай за мной! – И Борис’шка взашей выталк’вает. – Выкормил, выпоил на свою-т голову…
И осталась Симушка одна-одинешенька, и всю ноченьку-т не сомкнула очей: всё, слышь, плакала, всё, слышь, жалилась покойной что матушке на судьбу проклятую. Чует, пришла ейна смертушка: уж Митревна-т не станет рядиться да чикаться…
Под утро уж явился Борис’шко. Явился – д’ в ноженьки Симушке кинулся.
– Прости, прости, мол, моя ясная, чрез мене, мол, гонит тобе дяденька! – И цалует, цалует, что на веки вечные прощается! Уж он цаловал ей – зацалов’вал, уж миловал – замилов’вал. Всё одно сидит, что неживая, Симушка, толь на перстенек и погляд’вает. – Не молчи толь, хошь словцо вымолви, моя любая, сердце ж кровушкой обливается!
– А я ить что удумала, Борюшко: мол, во сне мы с тобой любимся… – А тот толь головушкой и покач’вает:
– В ниверститет мене дяденька сватает, на дольнюю сторонушку.
– Чай, не вернёсси уж, ученый-то?
– А ты станешь ждать, моя ненаглядная?
– Э-эх, бедовенный, нешто я ведаю, что со мной станется завтрева? – И опустила очи свои – звезд’чки лучистые.
– Всё одно моя ты, Симушка, всё одно окрутимся… – С тем и простились Серафима Саввишна с Борисом с Онисимычем.
А после и Василей явился Кузьмич: толь двер’чка и скрыпнула.
– Сбирайся, мол, Саввишна, жана невенчанна, потому Сивко уж запряжён – брыкается. – А сам, слышь, и не кажет глаз, старый пустозвон, побрехло ты, коровье ты ботало! – Д’ не с пустыми руками спровадил т’я Яков Яковлич: эвон сколь добра пожаловал, потому руки цаловать должна белые милостивцу… и везет же нек’торым… – Д’ тычет Симушке в личность дошку новешеньку, д’ платьи шелковые, д’ конхветку сладеньку, д’ монетку златеньку – д’ пес его зна’т, чего толь не понакладено в сундуки пудовые. Повеселела наша Симушка, а сама на перстенек и погляд’вает.
– Мне б проститься с Як’вом Як’личем, почеломкаться, рученьку б белую поцаловать милостивцу! – Ишь, льстивица лукавая, чары свои женские так и распуска’т, так и ластится хошь к псу шелудивому, толь бы мужеска полу был!
– Больно нужна ты топерва Якову Яковличу! – И шепотком: – Занемог он, Саввишна, изошел мужскою немощью…
– Так я вмиг излечу, что корова помелом, слижу! – А сама, шельма ты рыжая, нешто затосковала по полюбовничку сладкому, ин заныло тело белое! И который слаще – Яковка-ягодка аль Бориско-барбариско – и не ведает…
– Ладно, ступай себе. Слышь, не то, Сивко ржет, надрывается.
Обрядилась Серафима Саввишна во всё новешенько, да что с иголочки, села в саночки-салазочки… Д’ на путь-дороженьку окрест и окрестилася, д’ на дом на Чухарев и обернулася… А в окошечке, д’ за занавесочкой, чтой-то чернеется: Яков Яковлич?.. Сердечко и заныло девичье… Д’ сказ’вали, в небесех словно молонья кака и вспыхнула: молонья, д’ середь зимы, святые угодники! И что деется? Никак светопреставление?..
– Н-но, п’шёл! – Василей присвистнул Кузьмич – и заскрыпели салазки полозьями…
Вот едут себе. А ей, нашей Симушке, так, зна’шь, в память и врезалось лицо Як’ва Як’лича за занавесочкой… А и Борис’шкины жгут словеса-т, что прошептал на ушко: мол, окрутимся…
– Любишь его? – А она, Симушка-т, голов’шкой толь и покач’вает: любить-то любит, да пойди выведай, которого… – Тпру, прибыли… – И Сивко стал, что кол вкопанный.
Старая Митревна-т на крыльцо выскочила и уж костерить пошла унучку нерадивую д’ сейчас язычино и прикусила, потому глядит, шары свои вылупила: уборы на Симушке уж больно пышные-богатые и добра-т видимо-невидимо… Д’ Василей Кузьмич и шепни ей на ушко словцо заветное, д’ сдобри ладошку бумажкой денежной… Она, Митревна, сказ’вали, и растаяла:
– Ой, проходите, мол, в горницу, дорогие гостьюшки. Чем Господь послал, попотчую, мол. – И сейчас стол яствием уставила – и уж так умаслила Василья Кузьмича, что тот за столом носом клевать и пошел… Она, Митревна-т, и пустилась пытать Симушку да так ничего и не выпытала…
Вот сколь там времени минуло:
– Слышь, Симша, что ль? Отец-то почил твой, царствие небесное: сгорел от сивушки-то от проклятой! – И залилась безутешная, старая Митревна, душу людям добрым травить пустилась во все тяжкие. Так голосила, что Василей продрал глаза, а Симушка как сидела, так и сидит, шары свои вылупила, ни слова ни полслова ни молвила: мол, туды ему, пьянчутке, и дорожка-путь… Так Митревна, сказ’вают толь и помотала головенкою д’ язычино-т попридержала свой сызнова, потому уж больно перстенек Симушкин посверкивал…
А Василей меж тем прощеваться стал: не поминай, мол, лихом, Саввишна, не забижай, мол, Саввишну Митревна – А Симушка не стерпела, сейчас ему в ноженьки и кинулась: поклонись, мол, Василей Кузьмич, от мене Як’ву Як’личу – а после что вихорь какой и сгинула, толь ей и видели.