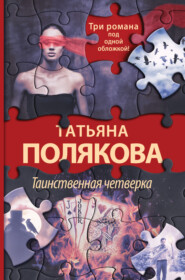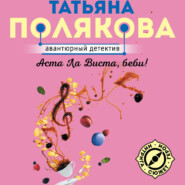По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Весенняя коллекция детектива
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Олимпиада Владимировна звала его Барс – так ей казалось уважительнее.
– Липа, – заныла поэтесса и в некотором роде трубадурша, – ну почему ты так говоришь, а? Ну почему ты никогда мне не скажешь, что хорошо?!
– Как я могу сказать, что хорошо, если плохо? – возразила Липа и зевнула. – И вообще, ты знаешь, что с утра я разговаривать не могу, а тем более слушать твои песнопения!
Трубадурша выдернула гитару из-под тощего пледа, которым была прикрыта поверх мятой ночной рубашки, аккуратно прислонила ее к креслу, зажала руки между коленей и пригорюнилась.
Олимпиада Владимировна искоса посмотрела на нее, фыркнула, а потом пожалела, что фыркнула, потому что худенькие плечики поднялись, как будто пытаясь защититься, да так и остались поднятыми.
– Хочешь кофе? – великодушно спросила она и опять зевнула. – Я сейчас сварю.
– Да не надо, – отказалась трубадурша. – Ничего мне не надочки, кроме счастья, а счастья нету!..
Ее звали Люсинда Окорокова, приехала она издалека, и Олимпиада Владимировна, столичная штучка, была убеждена, что корень всех Люсиндиных несчастий кроется именно в этом диком имени.
Так и не удалось выяснить, кто и почему назвал барышню Окорокову Люсиндой. Сведения были самые разноречивые – то ли испанский летчик когда-то полюбил бабушку Нюру, то ли папина сестра Верочка когда-то полюбила кубинского студента, а вместе с ним чохом и все загадочные нерусские слова, то ли папа когда-то полюбил «Хабанеру» и в его сознании она прочно связалась именно с этим странным именем, но барышня вышла именно Люсиндой Ивановной Окороковой.
Так же не удалось выяснить, кто и почему вбил ей в голову, что она изумительно и волшебно поет и не менее изумительно двигается. Люсинда любила рассказывать, как ее, шестилетнюю, бабушка застала перед зеркалом, когда она пела «Зима снежки солила в березовой кадушке» и «показывала ручками», как именно зима солила снежки, и пришла в неописуемый восторг. Решено было немедленно отдать талантливую девочку «на музыку» и «в балет». Музыке Люсинда училась по «классу гитары» и за год с лишним выучилась ловко играть на одной струне «Похоронный марш» и «В траве сидел кузнечик» без припева. Припев почему-то никак ей не давался.
Потом в Ростов, где жили Люсинда и ее семейство, приехал на гастроли Олег Митяев, и жизнь барышни Окороковой резко изменилась.
Она «заболела» авторской песней, влюбилась в Митяева до слез, бросила «Похоронный марш» и «Кузнечика», и соседский мальчишка показал ей три основных аккорда, на которых, как на трех китах, покоится искусство, где, «сгорая, плачут свечи», где «старик был немного пьян», где «люди идут по свету», а «мой друг, художник и поэт», «пройдет по кабакам» и «команду старую разыщет он».
Балет был заброшен, но даром тоже не прошел, Люсинда умела волнообразно извивать руки в позиции «Море волнуется» и довольно долго стоять на цыпочках, не заваливаясь на пятки.
Когда же исполнение песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стало некоторым образом даже совершеннее, чем у самого автора, и в том месте, где «с болью в горле» долженствовало вспомнить тех, «чьи имена, как раны, на сердце запеклись», слушателей неизменно прошибала слеза, решено было отправить девочку учиться в консерваторию.
По классу вокала, разумеется, а если не пройдет на вокал, то тогда по классу гитары, ладно, чего уж там.
Гитара – мамина, с наклеенным на желтый фанерный корпус портретом Дина Рида, – прилагалась к девочке, которую собрали в Москву по всем правилам.
Правила приезда провинциального таланта из глубинки в столицу были сформулированы еще Иваном Александровичем Гончаровым, классиком русской литературы, в позапрошлом веке и с тех пор ни разу не менялись.
Во-первых, молодое дарование должно иметь при себе письмо «к дядюшке», с просьбой «похлопотать, поучаствовать, беречь от злого глазу, и ночью – жить-то, чай, вместе будете! – прикрывать чаду рот платком, чтобы не налезли мухи».
Во-вторых, дарование, разумеется, должно гореть, пылать и быть одержимым какой-нибудь уж совсем невозможной и небывалой идеей – к примеру, выйти на втором году службы в министры, или, на худой конец, в директоры департамента и тайные советники.
В-третьих, дарование непременно должно привезти с собой гостинцев, которых в столице не сыщешь, – сушеной малины, домотканого полотна или варенья.
В-четвертых, на родине у него должна остаться романтическая привязанность, к которой оно станет «склонять розы своей души», направлять «порывы молодого сердца» и проливать над письмами «чистые слезы».
Ничего не изменилось.
Люсинда Окорокова прибыла в столицу именно таким порядком.
Кроме гитары с Дином Ридом, у нее еще был жесткий и пахучий овчинный тулупчик на зиму, именуемый на родине «дубленкой», скатанный и перевязанный веревкой, – отдельным багажным местом, – чемодан на колесиках, в котором на самом дне лежала тетрадочка с переписанными от руки песнями про «солнышко лесное», «плато Расвумчорр», «белые розы» и свечи во всех вариантах и вариациях. Еще была брезентовая сумища с гостинцами – домашние закрутки, вяленый лещ, а сверху – мама сунула в последний момент! – два баклажана и туесок с поздней клубникой. Дело было в августе, в поезде была несусветная жара, окна не открывались, лещом невыносимо воняло, и клубника протекла, на брезенте выступили неровные, бурые, как будто кровавые, пятна. Со страху и от тоски Люсинда Окорокова съела всю поплывшую и закисшую ягоду и до самой Москвы мучилась животом невыносимо. Мучения осложнялись тем, что в плацкартном вагоне работал один туалет и туда непрерывно ломился народ – мужики безостановочно пили пиво, которое требовало выхода, дети налегали на южные фрукты, которые в молодых организмах тоже надолго не задерживались. К Москве «очко» пребывало в отчаянном положении, а дух из него заглушил даже вяленого леща.
В розовой сумочке из блестящей клеенки – «мадам, только для вас, мадам, настоящий Париж, мадам, если желаете удостовериться, на подкладке пропечатано!» – у нее были припрятаны паспорт, фотография Костика, прошлой осенью ушедшего в армию и начинавшего каждое письмо словами: «Приветствую тебя военным приветом из далекого города Архангельска», пять тысяч рублей денег и адрес папиной сестры, той самой, которая когда-то была влюблена в кубинца, а может, кубинец был влюблен в нее.
Тетя Верочка была предупреждена по телефону, но тем не менее, когда Люсинда, отдуваясь и утирая скомканным платком потное лицо, прибыла в Южное Бутово и взгромоздилась на одиннадцатый этаж скучнейшего, длиннющего, насмерть перепугавшего ее своей огромностью дома, на ее звонок никто не ответил.
Никто не вышел Люсинду встречать, никто не кинулся ей на шею, никто не восклицал, что она выросла и стала похожа на отца – копия, копия! – и пирогами не пахло, а мама всегда пекла пироги, когда из станицы Равнинной ожидались дальние родственники, дядя Вася с тетей Зоей и их девчонкой. Люсинда замучилась, переволновалась, ей очень хотелось домой, и отмыться после поездного сортира и пивных мужиков с их сальными шутками, и еще поесть чего-нибудь основательного, горячей картошки с колбасой или шпротами, или вон хоть с лещом, и чаю очень хотелось. Кроме того, сохранялась некоторая опасность, что клубника еще может себя показать, и в это тревожное время хотелось находиться вблизи унитаза, а пришлось маяться на лестничной клетке.
Никого не было долго-долго, а потом появился какой-то здоровенный лохматый парень и стал ключом открывать тети-Верочкину квартиру – Люсинда точно знала, что именно тетину, потому что за время ожидания несколько раз вытаскивала из розовой клеенки бумажку с адресом и, старательно шевеля губами, ее перечитывала. Все правильно, квартира номер 743.
Открывая, он все косился на Люсинду с ее узлами, а она так заробела, что слова не могла вымолвить, хотя ей всегда говорили, что она «бойкая девчонка».
Он открыл дверь, потом стал открывать вторую – две двери, чудно! – вошел, и обе двери с грохотом захлопнулись. Люсинда осталась на площадке одна. Она просидела на подоконнике примерно с полчаса, переждала еще каких-то людей, которые смотрели на нее как-то странно и уж точно недружелюбно, а потом решилась – в основном из-за клубники.
Подтащив чемодан, сумищу и гитару, с которых она не сводила глаз, опасаясь, что украдут, она позвонила в квартиру тети Верочки.
Лохматый парень в донельзя застиранных джинсах и голый по пояс открыл дверь, осмотрел ее с головы до ног и хмыкнул.
Кроме джинсов, на нем ничего не было, и он что-то вкусно жевал.
Люсинда старалась на него не смотреть.
– А я думал, это шутка, – сказал парень.
– А тетя Верочка здесь живет? – выпалила Люсинда, скосила на него глаза и опять уставилась на свою гитару. – То есть Вера Петровна Окорокова здесь живет?
– Ой, блин, – сказал парень без всяких эмоций в голосе. – Нет ее тут, и фамилия ее не Окорокова, а Золотарева. А ты кто? Племянница из Ростова, что ли?
Люсинда, перепуганная до смерти Золотаревой и тем, что тети Верочки нет, едва нашлась, чтобы кивнуть.
– Ой, блин, – повторил парень. – Как в кино, ей-богу! Я-то думал, что это шутка такая, а ты приехала, блин!..
– Я… приехала, – подтвердила Люсинда, начиная подозревать неладное. – А тетя Верочка… на работе, да?
– Она здесь не живет, – морщась, сказал парень, – я тебе, конечно, адрес могу дать, но…
– Адрес? – убитым голосом переспросила Люсинда Окорокова, приехавшая поступать в консерваторию по классу вокала. – А… где она живет?
– Отсюда не видать, – сказал парень. В квартиру он ее не приглашал. – На Чистых Прудах она живет. А чего ты приехала-то?
– По… погостить, – пробормотала Люсинда, решив, что про консерваторию лучше пока помалкивать. – А как мне ее теперь искать?
– Ой, блин, – в третий раз сказал парень и некоторое время молча ее рассматривал, а потом вздохнул, словно покорившись судьбе, и посторонился: – Проходи, ладно!
Позабыв про свои узлы, Люсинда кинулась внутрь, еле нашла заветную дверь – парень за спиной длинно присвистнул, – заперлась и сидела там долго. Выходить боялась от смущения и еще от страха, что ее выгонят, а она очень устала, так устала, как никогда в жизни не уставала.
Парень, оказавшийся тети-Верочкиным сыном и, соответственно, ее двоюродным братом, сестрицу не выгнал, хотя смотрел насмешливо и тоже совсем безрадостно, как давешние люди на площадке.
Он ей объяснил, что тетя Верочка лет десять назад переехала в старую бабушкину квартиру на каких-то там прудах – что за пруды еще, видать, за городом, как же она, Люсинда, из-за города станет ездить в консерваторию?! Еще он объяснил, что они ее не ждали, потому что так и не поняли, кто должен приехать и зачем, они, собственно, никого не приглашали. Люсинда согласилась – слышно было плохо, мать сильно кричала в трубку, когда звонила, а вся семья, и дочка, и папа, и бабушка стояли вокруг с тревожными лицами и суфлировали, помогая матери говорить, и она махала на них кухонным полотенцем, которое в волнении стащила с плеча.
Парень налил ей чаю, довольно холодного, из какого-то перевернутого баллона, стоявшего верхом на железном ящике, напоминавшем компьютерный системный блок, а ей картошки хотелось, и хлебушка, и мяса! К чаю ничего не было, только какие-то таблетки, про которые парень сказал «заменитель».
Потом пришла его жена, и… дальше Люсинда не любила вспоминать.
– Липа, – заныла поэтесса и в некотором роде трубадурша, – ну почему ты так говоришь, а? Ну почему ты никогда мне не скажешь, что хорошо?!
– Как я могу сказать, что хорошо, если плохо? – возразила Липа и зевнула. – И вообще, ты знаешь, что с утра я разговаривать не могу, а тем более слушать твои песнопения!
Трубадурша выдернула гитару из-под тощего пледа, которым была прикрыта поверх мятой ночной рубашки, аккуратно прислонила ее к креслу, зажала руки между коленей и пригорюнилась.
Олимпиада Владимировна искоса посмотрела на нее, фыркнула, а потом пожалела, что фыркнула, потому что худенькие плечики поднялись, как будто пытаясь защититься, да так и остались поднятыми.
– Хочешь кофе? – великодушно спросила она и опять зевнула. – Я сейчас сварю.
– Да не надо, – отказалась трубадурша. – Ничего мне не надочки, кроме счастья, а счастья нету!..
Ее звали Люсинда Окорокова, приехала она издалека, и Олимпиада Владимировна, столичная штучка, была убеждена, что корень всех Люсиндиных несчастий кроется именно в этом диком имени.
Так и не удалось выяснить, кто и почему назвал барышню Окорокову Люсиндой. Сведения были самые разноречивые – то ли испанский летчик когда-то полюбил бабушку Нюру, то ли папина сестра Верочка когда-то полюбила кубинского студента, а вместе с ним чохом и все загадочные нерусские слова, то ли папа когда-то полюбил «Хабанеру» и в его сознании она прочно связалась именно с этим странным именем, но барышня вышла именно Люсиндой Ивановной Окороковой.
Так же не удалось выяснить, кто и почему вбил ей в голову, что она изумительно и волшебно поет и не менее изумительно двигается. Люсинда любила рассказывать, как ее, шестилетнюю, бабушка застала перед зеркалом, когда она пела «Зима снежки солила в березовой кадушке» и «показывала ручками», как именно зима солила снежки, и пришла в неописуемый восторг. Решено было немедленно отдать талантливую девочку «на музыку» и «в балет». Музыке Люсинда училась по «классу гитары» и за год с лишним выучилась ловко играть на одной струне «Похоронный марш» и «В траве сидел кузнечик» без припева. Припев почему-то никак ей не давался.
Потом в Ростов, где жили Люсинда и ее семейство, приехал на гастроли Олег Митяев, и жизнь барышни Окороковой резко изменилась.
Она «заболела» авторской песней, влюбилась в Митяева до слез, бросила «Похоронный марш» и «Кузнечика», и соседский мальчишка показал ей три основных аккорда, на которых, как на трех китах, покоится искусство, где, «сгорая, плачут свечи», где «старик был немного пьян», где «люди идут по свету», а «мой друг, художник и поэт», «пройдет по кабакам» и «команду старую разыщет он».
Балет был заброшен, но даром тоже не прошел, Люсинда умела волнообразно извивать руки в позиции «Море волнуется» и довольно долго стоять на цыпочках, не заваливаясь на пятки.
Когда же исполнение песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стало некоторым образом даже совершеннее, чем у самого автора, и в том месте, где «с болью в горле» долженствовало вспомнить тех, «чьи имена, как раны, на сердце запеклись», слушателей неизменно прошибала слеза, решено было отправить девочку учиться в консерваторию.
По классу вокала, разумеется, а если не пройдет на вокал, то тогда по классу гитары, ладно, чего уж там.
Гитара – мамина, с наклеенным на желтый фанерный корпус портретом Дина Рида, – прилагалась к девочке, которую собрали в Москву по всем правилам.
Правила приезда провинциального таланта из глубинки в столицу были сформулированы еще Иваном Александровичем Гончаровым, классиком русской литературы, в позапрошлом веке и с тех пор ни разу не менялись.
Во-первых, молодое дарование должно иметь при себе письмо «к дядюшке», с просьбой «похлопотать, поучаствовать, беречь от злого глазу, и ночью – жить-то, чай, вместе будете! – прикрывать чаду рот платком, чтобы не налезли мухи».
Во-вторых, дарование, разумеется, должно гореть, пылать и быть одержимым какой-нибудь уж совсем невозможной и небывалой идеей – к примеру, выйти на втором году службы в министры, или, на худой конец, в директоры департамента и тайные советники.
В-третьих, дарование непременно должно привезти с собой гостинцев, которых в столице не сыщешь, – сушеной малины, домотканого полотна или варенья.
В-четвертых, на родине у него должна остаться романтическая привязанность, к которой оно станет «склонять розы своей души», направлять «порывы молодого сердца» и проливать над письмами «чистые слезы».
Ничего не изменилось.
Люсинда Окорокова прибыла в столицу именно таким порядком.
Кроме гитары с Дином Ридом, у нее еще был жесткий и пахучий овчинный тулупчик на зиму, именуемый на родине «дубленкой», скатанный и перевязанный веревкой, – отдельным багажным местом, – чемодан на колесиках, в котором на самом дне лежала тетрадочка с переписанными от руки песнями про «солнышко лесное», «плато Расвумчорр», «белые розы» и свечи во всех вариантах и вариациях. Еще была брезентовая сумища с гостинцами – домашние закрутки, вяленый лещ, а сверху – мама сунула в последний момент! – два баклажана и туесок с поздней клубникой. Дело было в августе, в поезде была несусветная жара, окна не открывались, лещом невыносимо воняло, и клубника протекла, на брезенте выступили неровные, бурые, как будто кровавые, пятна. Со страху и от тоски Люсинда Окорокова съела всю поплывшую и закисшую ягоду и до самой Москвы мучилась животом невыносимо. Мучения осложнялись тем, что в плацкартном вагоне работал один туалет и туда непрерывно ломился народ – мужики безостановочно пили пиво, которое требовало выхода, дети налегали на южные фрукты, которые в молодых организмах тоже надолго не задерживались. К Москве «очко» пребывало в отчаянном положении, а дух из него заглушил даже вяленого леща.
В розовой сумочке из блестящей клеенки – «мадам, только для вас, мадам, настоящий Париж, мадам, если желаете удостовериться, на подкладке пропечатано!» – у нее были припрятаны паспорт, фотография Костика, прошлой осенью ушедшего в армию и начинавшего каждое письмо словами: «Приветствую тебя военным приветом из далекого города Архангельска», пять тысяч рублей денег и адрес папиной сестры, той самой, которая когда-то была влюблена в кубинца, а может, кубинец был влюблен в нее.
Тетя Верочка была предупреждена по телефону, но тем не менее, когда Люсинда, отдуваясь и утирая скомканным платком потное лицо, прибыла в Южное Бутово и взгромоздилась на одиннадцатый этаж скучнейшего, длиннющего, насмерть перепугавшего ее своей огромностью дома, на ее звонок никто не ответил.
Никто не вышел Люсинду встречать, никто не кинулся ей на шею, никто не восклицал, что она выросла и стала похожа на отца – копия, копия! – и пирогами не пахло, а мама всегда пекла пироги, когда из станицы Равнинной ожидались дальние родственники, дядя Вася с тетей Зоей и их девчонкой. Люсинда замучилась, переволновалась, ей очень хотелось домой, и отмыться после поездного сортира и пивных мужиков с их сальными шутками, и еще поесть чего-нибудь основательного, горячей картошки с колбасой или шпротами, или вон хоть с лещом, и чаю очень хотелось. Кроме того, сохранялась некоторая опасность, что клубника еще может себя показать, и в это тревожное время хотелось находиться вблизи унитаза, а пришлось маяться на лестничной клетке.
Никого не было долго-долго, а потом появился какой-то здоровенный лохматый парень и стал ключом открывать тети-Верочкину квартиру – Люсинда точно знала, что именно тетину, потому что за время ожидания несколько раз вытаскивала из розовой клеенки бумажку с адресом и, старательно шевеля губами, ее перечитывала. Все правильно, квартира номер 743.
Открывая, он все косился на Люсинду с ее узлами, а она так заробела, что слова не могла вымолвить, хотя ей всегда говорили, что она «бойкая девчонка».
Он открыл дверь, потом стал открывать вторую – две двери, чудно! – вошел, и обе двери с грохотом захлопнулись. Люсинда осталась на площадке одна. Она просидела на подоконнике примерно с полчаса, переждала еще каких-то людей, которые смотрели на нее как-то странно и уж точно недружелюбно, а потом решилась – в основном из-за клубники.
Подтащив чемодан, сумищу и гитару, с которых она не сводила глаз, опасаясь, что украдут, она позвонила в квартиру тети Верочки.
Лохматый парень в донельзя застиранных джинсах и голый по пояс открыл дверь, осмотрел ее с головы до ног и хмыкнул.
Кроме джинсов, на нем ничего не было, и он что-то вкусно жевал.
Люсинда старалась на него не смотреть.
– А я думал, это шутка, – сказал парень.
– А тетя Верочка здесь живет? – выпалила Люсинда, скосила на него глаза и опять уставилась на свою гитару. – То есть Вера Петровна Окорокова здесь живет?
– Ой, блин, – сказал парень без всяких эмоций в голосе. – Нет ее тут, и фамилия ее не Окорокова, а Золотарева. А ты кто? Племянница из Ростова, что ли?
Люсинда, перепуганная до смерти Золотаревой и тем, что тети Верочки нет, едва нашлась, чтобы кивнуть.
– Ой, блин, – повторил парень. – Как в кино, ей-богу! Я-то думал, что это шутка такая, а ты приехала, блин!..
– Я… приехала, – подтвердила Люсинда, начиная подозревать неладное. – А тетя Верочка… на работе, да?
– Она здесь не живет, – морщась, сказал парень, – я тебе, конечно, адрес могу дать, но…
– Адрес? – убитым голосом переспросила Люсинда Окорокова, приехавшая поступать в консерваторию по классу вокала. – А… где она живет?
– Отсюда не видать, – сказал парень. В квартиру он ее не приглашал. – На Чистых Прудах она живет. А чего ты приехала-то?
– По… погостить, – пробормотала Люсинда, решив, что про консерваторию лучше пока помалкивать. – А как мне ее теперь искать?
– Ой, блин, – в третий раз сказал парень и некоторое время молча ее рассматривал, а потом вздохнул, словно покорившись судьбе, и посторонился: – Проходи, ладно!
Позабыв про свои узлы, Люсинда кинулась внутрь, еле нашла заветную дверь – парень за спиной длинно присвистнул, – заперлась и сидела там долго. Выходить боялась от смущения и еще от страха, что ее выгонят, а она очень устала, так устала, как никогда в жизни не уставала.
Парень, оказавшийся тети-Верочкиным сыном и, соответственно, ее двоюродным братом, сестрицу не выгнал, хотя смотрел насмешливо и тоже совсем безрадостно, как давешние люди на площадке.
Он ей объяснил, что тетя Верочка лет десять назад переехала в старую бабушкину квартиру на каких-то там прудах – что за пруды еще, видать, за городом, как же она, Люсинда, из-за города станет ездить в консерваторию?! Еще он объяснил, что они ее не ждали, потому что так и не поняли, кто должен приехать и зачем, они, собственно, никого не приглашали. Люсинда согласилась – слышно было плохо, мать сильно кричала в трубку, когда звонила, а вся семья, и дочка, и папа, и бабушка стояли вокруг с тревожными лицами и суфлировали, помогая матери говорить, и она махала на них кухонным полотенцем, которое в волнении стащила с плеча.
Парень налил ей чаю, довольно холодного, из какого-то перевернутого баллона, стоявшего верхом на железном ящике, напоминавшем компьютерный системный блок, а ей картошки хотелось, и хлебушка, и мяса! К чаю ничего не было, только какие-то таблетки, про которые парень сказал «заменитель».
Потом пришла его жена, и… дальше Люсинда не любила вспоминать.