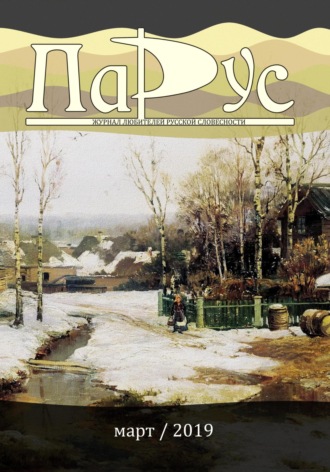
Журнал «Парус» №73, 2019 г.
НАДЕЖДА
Вечерами лущу спелые семечки времени.
Свиваю пряжу в нити
Бледнеющих воспоминаний.
Воспоминания терпкие, как бывает терпко вино,
Нити овиты вокруг души.
Скольжу в челноках через основу*,
Утоками** сотворяя полотно ночи:
Что было вчера,
А что – сегодня…
В серой задумчивости поднимаю недопитую чашу.
В сумерках светят мне искорки счастья.
Думаю о тебе.
Дай моим искрам надежду на жизнь.
Сегодня чашу сожалений выплесну за голову —
До новых надежд.
Выпьем за любовь, которая придёт завтра.
Что будет дальше?
* Основа – продольная система нитей в полотне.
** Уток – система нитей, которые в полотне располагаются поперёк длины куска, проходя от одной кромки к другой.
Художественное слово: проза
Геннадий АВЛАСЕНКО. Ему легко говорить!
Рассказ
Парк был огромным, и мужчина не сразу обнаружил мальчика, а обнаружив, не сразу смог заставить себя подойти к нему. Мальчик сидел на одной из скамеек и, кажется, плакал. Услышав шаги, он чуть приподнял голову, и мужчина с облегчением отметил, что лицо у мальчика чистое, незаплаканное, а значит, произошла ошибка.
И неудивительно – столько лет прошло…
– Привет! – проговорил мужчина и широко, хоть и не совсем натурально, улыбнулся мальчику. Потом, осторожно присев на самый край скамейки, добавил уже более раскованно:
– Как дела?
Мальчик ничего не ответил. Он лишь пожал плечами и встревоженно огляделся по сторонам. Но в парке никого не было… кроме их двоих, разумеется.
– Не бойся! – мужчина снова улыбнулся. – Я не сделаю тебе ничего плохого. Просто я… мне надо… – он умолк на мгновение, бросил быстрый взгляд на напряженно застывшее лицо мальчика. – Просто мне надо поговорить с тобой.
В глазах мальчика, приглушая страх, вспыхнуло вдруг любопытство.
– Со мной? – недоверчиво переспросил он. – Именно со мной?
Мужчина кивнул.
– Но ведь я вас не знаю! – мальчик вновь встревоженно осмотрелся вокруг. – А о чем вы хотите поговорить со мной?
Мужчина ответил не сразу. Некоторое время он лишь молча смотрел куда-то вдаль, как бы собираясь с мыслями. Мальчик терпеливо ждал.
– Тебе сегодня вновь приснился всё тот же сон? – не глядя в сторону мальчика, спросил, наконец, мужчина. Впрочем, он даже не спросил, скорее, просто констатировал хорошо и давно известный ему факт. – Тебе снова приснился этот сон, и потому ты тут, а не в школе…
Замолчав, мужчина всё же заставил себя повернуться в сторону мальчика. Взгляды их встретились.
– Я не ошибся?
Мальчик неуверенно кивнул.
– Откуда вы знаете? – тихо спросил он, не сводя широко раскрытых глаз с изможденного лица мужчины. – Я никому не рассказывал, совсем никому! Об этом никто не должен знать, ведь я… мне…
Мальчик умолк, не договорив, и судорожно втянул в себя воздух.
– Откуда вы всё знаете?
Какое-то время мужчина молчал и смотрел на мальчика. И мальчик тоже молча смотрел на него – испуганно-тревожным и одновременно ожидающим взглядом.
– Дело в том, что я… что у меня… – мужчина вновь замолчал на некоторое время, задумчиво крутя в пальцах зеленую травинку. – У меня когда-то тоже было нечто подобное. Очень давно, примерно в твоем возрасте. И я…
Мужчина взглянул на мальчика, но как-то по-новому, не так, как раньше, и добавил, таинственно понизив голос почти до шепота:
– Мне тоже было страшно, очень страшно! Понимаешь?
Мальчик вновь неуверенно кивнул.
– И что было потом? – спросил он тихо, с затаенной какой-то надеждой. – Оно прошло? Само по себе прошло, да?
– Само по себе?
Сухие, потрескавшиеся губы мужчины перекосила вдруг какая-то невеселая, горькая даже усмешка.
– Да нет, не само по себе, далеко не само! Полгода я провел в психиатрической клинике… больше даже …
Он замолчал, взглянул прямо в испуганно-внимательные глаза мальчика и добавил, вновь понизив голос почти до шепота:
– А знаешь, почему?
– Почему? – тоже шепотом поинтересовался мальчик.
– Потому, что я не выдержал и обо всем рассказал родителям! Ну, а они… из самых лучших побуждений, разумеется… Скажи, – вдруг спросил мужчина, – ты тоже хочешь рассказать родителям об… об этом?
Он замолчал в ожидании ответа, но мальчик тоже молчал, и это взаимное их молчание длилось довольно-таки продолжительное время.
– Как раз сегодня ты и решил обо всем рассказать родителям, ведь так? – снова повторил мужчина. – Сегодня же вечером рассказать?
– Откуда вы знаете?! – выкрикнул мальчик, вскакивая со скамейки. Перекошенное лицо его было белее мела, в глазах, широко распахнутых, стоял самый настоящий ужас. – Как вы можете знать обо всем этом? Кто вы?
Потом, весь обмякнув, он вновь опустился на скамейку и тихо, без слёз, заплакал.
– Я просто хочу помочь тебе! – быстро проговорил мужчина, стараясь не смотреть в сторону плачущего мальчика. – Просто помочь… и ничего больше! Эти сны, они…
– Это не сны! – вдруг зашептал мальчик, и в шепоте его, торопливом и лихорадочном, тоже явственно ощущался ужас. – Сны не бывают такими, не должны быть! Я и в самом деле куда-то переношусь в это время, и там…
Он умолк на мгновение, судорожно сглотнул слюну.
– Там так страшно! И знаете, что еще?
Мальчик замолчал, настороженно обернулся, ближе придвинулся к мужчине.
– Знаете, что еще?
– Что еще? – спросил мужчина, который, казалось, прекрасно знал каждое слово ответа.
– Мне почему-то кажется, что я… что я однажды просто не вернусь оттуда! Просто не смогу вернуться…
Мальчик замолчал, впился взглядом в лицо мужчины, как бы ожидая если и не помощи, то хотя бы мало-мальски дельного совета. Мужчине стало вдруг как-то не по себе под умоляющим, затравленным этим взглядом. Невольно подумалось, что всё напрасно, что ничего нельзя изменить… да и не станет ли только хуже от неуклюжей этой попытки?
– Как ты учишься? – неожиданно спросил он. – Хорошо?
Не ожидая такого вопроса, мальчик ответил не сразу.
– По-разному, – сказал он, пожав плечами. – Как когда…
– Но в последнее время у тебя одни только отличные отметки? – теперь мужчина внимательно смотрел на мальчика. – Ты отвечаешь на любой вопрос, даже не задумываясь… а между прочим, дома почти ничего не учишь…
– Вы и это знаете? – мальчик вновь замолчал, в глазах его что-то промелькнуло. – Это сны, да?
– Да! – сказал мужчина. – Это сны! Впрочем, не только это…
– А что еще?
Мужчина вновь посмотрел на мальчика. Он смотрел молча, но мальчик вздрогнул.
– Как вы можете разговаривать, не шевеля губами? – спросил он робко. – И ваш голос… он так изменился!
– А я и не разговаривал, – ответил мужчина, – я думал. Ты просто прочитал мои мысли. Ты ведь и сейчас их читаешь, разве не так?
Не отвечая, мальчик медленно поднялся со скамейки. Мужчина тоже встал… и теперь они снова смотрели друг другу в глаза.
– Вы из будущего? – спросил мальчик.
Мужчина ничего не ответил.
– Вы – это я?
Мужчина вновь ничего не ответил. Он лишь вздрогнул, как от удара, и наконец-таки опустил глаза.
– Почему вы хотите, чтобы я продолжал видеть эти сны?
– Не знаю! Решай сам!
Теперь голос мужчины был каким-то сиплым, словно простуженным. И еще очень утомленным, что ли…
– Просто, если они исчезнут, ты будешь жалеть об этом! Всю свою жизнь ты будешь об этом жалеть!
– Как вы? – спросил мальчик.
– Как я! – сказал мужчина. – А впрочем, решай сам!
– Но там так страшно! – в глазах мальчика все-таки заблестели настоящие слёзы. Голос его предательски задрожал и сорвался. – Там со мной происходит что-то… я словно растворяюсь в пространстве… становлюсь частью кого-то другого, огромного и непонятного! Там, вообще, так много непонятного…
– Я знаю! – тихо сказал мужчина. – Я помню…
– Я не смогу больше! – мальчик смотрел на мужчину почти умоляюще. – Что мне делать?
– Это ты должен решить сам!
И мужчина, повернувшись, быстро зашагал прочь.
– Подождите! – закричал мальчик, бросаясь ему вслед. – Не уходите, побудьте еще! Не бросайте меня сейчас! Я не могу больше видеть эти сны, понимаете, не могу! Это выше моих сил, это…
Но мужчины в парке уже не было. Он исчез как-то внезапно и сразу, и мальчик растерянно умолк на полуслове. Некоторое время он так и стоял, молча и неподвижно, и всё смотрел и смотрел в ту сторону, где так загадочно и так неожиданно исчез мужчина.
Потом на глаза мальчику попался пустой спичечный коробок.
Не отрывая внимательного взгляда от коробка, мальчик медленно вытянул перед собой правую руку ладошкой вверх, весь как-то напрягся, затаил дыхание и… описав в воздухе пологую дугу, коробок мягко свалился прямо в протянутую ладонь мальчика.
Вздрогнув, мальчик невольно отдернул руку, и коробок вновь полетел в траву.
– Я всё равно не смогу продолжать это! – прошептал мальчик. – Всё равно не смогу! Ему легко говорить…
Он посмотрел на часы. Занятия в школе вот-вот должны закончиться… значит, можно уже собираться домой. Позвонить друзьям, спросить про уроки. Делать уроки, правда, не было никакой необходимости: мальчик запоминал новый материал, едва раскрыв учебник… вот только письменные работы отнимали немного больше времени…
С одной стороны, это было просто здорово… с другой же…
– Ему легко говорить! – вновь и вновь повторял мальчик, торопливо вышагивая по узкой неухоженной тропинке старого парка. – Ему легко говорить!
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись восьмая: «Дыра»
Внезапный ранний снег кажется странным. Будто летучие какие-то существа обсели гроздьями деревья, еще не успевшие сбросить листья. Все бело, серо. Погода мягкая, сырая. Волга в тумане.
На тротуаре у глухого дощатого забора перед мостиком через канавку встретились две сверстницы – как все коренные жители, знакомые еще со школьных лет. Одна статная, в черном пальто, выглядит помоложе, другая, длинная, худая, в шапочке вязаной и в пуховике – смотрится постарше.
Они разговорились у отгороженного от улицы разросшимися рябинками и акациями деревянного уютного домика, покрашенного коричневой краской. Он выделяется массивными столбами ворот из силикатного кирпича. Соорудил когда-то эти столбы-тумбы каменщик, хозяин домика. А та из женщин, что ростом повыше, в шапочке вязаной, и есть хозяйка, его вдова. Он последнее время работал уже на переправе. На улицах их видели всегда вместе, вдвоем ходили в огород, в магазины, в библиотеку. Лицо у бывшего каменщика к тому времени стало уже красным. Конечно же, и выпивал, и возраст – вот и умер внезапно, года три назад.
Вдова, живая, с большими черными глазами, ежится. Холодновато же стоять на улице среди снежных охлопьев, тающих на ветках в сыром, вялом воздухе. Разговаривая, пошли прогуляться, свернули за угол на волжский бульвар. Вдова давно живет в многоэтажке, в квартире: еще с мужем переехали туда. А в коричневом домике доживала век девяностолетняя её свекровь, а потом её младший сын, повторивший трафаретный жизненный путь: выпивал, развелся с женой, снова выпивал и умер…
Бульвар, или обрыв, как его называют, укреплен недавно диким камнем в стальной сетке, залит асфальтом. Но дорогие железные столбы с фонарями уже испорчены: где фонари побиты, а где и сами столбы выворочены. Здесь по темным вечерам бесчинствуют подростки. Крики, смех, пиво, наркотики…
Ухоженная, в черном новом пальто сверстница уже второй раз спрашивает у вдовы: ведь в доме-то родительском, отдельном, жить лучше, чем в квартире? Наследница ответила невнятно: нет, там, дескать, не очень хорошо. И замолчала… На том, заливном берегу Волги, в тумане расплываются землистые сырые цвета березняка и бедненько желтеют остатками листвы на фоне горизонта.
Помолчав, поглядев на тот берег, наследница повернулась и стала рассказывать, что одна уж она в доме жить не будет. Такой случай был, после которого и заходить туда неприятно. Как раз перед смертью мужа. Они там ночевали, и ночью она внезапно проснулась. Было тихо той, бездонно напряженной тишиной, которая стоит только в старых деревянных домах на улочках маленьких уездных городов… Вдруг дверь скрипнула… Испугалась. Подумала: кто бы это мог быть, ведь двери заперты?..
– Я почувствовала, что в доме кто-то есть… Муж спит. Вдруг опять слышу… Родители мужа, покойники, разговаривают… Где-то на кухне… Мать говорит умершему, младшему брату мужа: «Паша, это ты? Проходи»… А голос Паши спрашивает: «А где Сергей?»… «А вон он, спит»… – отвечает мать… А через две недели Сережа умер! – сказала наследница… – Мне с тех пор стало страшно бывать в доме…
Они поговорили ещё, посмотрели на землистые серые цвета того берега…
– Я чувствую, что кто-то есть в доме… И сразу узнаю… – снова повторила наследница. Она заметно волновалась. Хотя времени-то прошло уже немало с той ночи…
– А как же ты узнаешь? – удивилась знакомая – волнение перешло и к ней. В такое не верилось…
– А у собаки шерсть дыбом встаёт, – с измученным каким-то, печальным взглядом ответила вдова…
Они постояли и разошлись, чтобы, может, так же случайно встретиться через год или два, а может, уже и никогда. У той, что в новом пальто – это не шло из ума: она вечером рассказала своей старшей сестре, торговке с рынка. Теперь сестра отдыхает на пенсии, по воскресеньям ходит в церковь. Не удивилась:
– Это бесы! – сказала уверенно сестра. Кивнула на телевизор: – Вон, об этом говорили, профессор… – И сразу же забыла, засмотревшись в новый, во весь простенок, экран… Глаза у нее тоже плоские, как из синего стекла.
Оценив её скучное лицо, рассказчица пошла в магазин, где торговали хлебом из фуражного зерна, поддельными чаем, молоком и другими такими же «продуктами». Дома ей очень захотелось рассказать страшную историю мужу: как и в их городишке открылась дыра на тот свет. Он же ведь когда-то с тем каменщиком работал на стройке. Но решила не говорить «о плохом», как называла это сестра-торговка. Муж, переживший в прошлом году инсульт, сидел в кресле, чинил очки.
Серело в окне: мокрели пятна снега, туман. Таяло, расползался мир в сумерках, пока вовсе не угас – стал сам, как дыра куда-то; и в углу забалаболил, засверкал привычно яркий экран телевизора: тоже как дыра в какой-то свой, иной мир.
За темным окном замелькали вялые, крупные снежинки, похожие на белых паучков. «Опять снег пошел», – только тихо и сказала она мужу.
…А я, записав эту историю из жизни нашего города, находящегося у невидимой дыры на тот свет, – открыл наугад сентябрьский, семнадцатый нумер «Московского телеграфа» за 1832 год и стал читать с пятьдесят первой страницы:
«Вчера, когда я получил приказание отправиться на выемку, то решил пойти домой, пообедать и лечь спать, чтобы к ночи быть свежим, готовым. В голове у меня сильно шумело. Казалось мне, что я шел домой; только дивился я, что долго иду. Тут пристал ко мне товарищ, по виду такой же целовальник, как я. Мы разговорились с ним. Этого весельчака и рассказчика я не видывал, и всего чуднее, что он знал всю подноготную, и всё сказывал мне: сколько кто ворует, кто кого любит, и наконец мне самому обо мне самом рассказал то, чего, казалось мне, никто знать не может кроме только самого меня. Вдруг увидел я в стороне часовню с Образом Пресвятой Богоматери и, по христианскому обычаю, снял шляпу и перекрестился – глядь: моего товарища след простыл!
Это меня немного удивило. Я продолжал идти. И опять товарищ мой на первом перекрестке пристал ко мне»…
…А что теперь делается в коричневом домике этой вечерней порою? – подумал я, отрываясь от покоробившихся, посеревших листов старого журнала… Ах, какие темные дни, уже неделю без солнца, без света…
«…Тут мы подошли, как будто, мне казалось к дому, у которого на вывеске была написана черная кошка. Внутри слышно было страшное мяуканье. – Что это? – спросил я – Ничего, так: ученые кошки разыгрались. Мы вошли – тьма тьмущая кошек сидит на столах, на скамьях, на печи! За стойкой стоит большой кот и наливает пиво. Так хорошо пенилось оно, так хорошо пахло, что мне захотелось отведать»…
…Если бы это написал я, то сказали бы, что – подражаешь Михаилу Булгакову: его коту Бегемоту… А ведь всё это, из «Телеграфа», может, тоже правда?.. Из той же дыры, что и ночной разговор в коричневом домике, у которой, может, и вся наша Россия теперь очутилась. И не из той ли же дыры утеснение в ценах и хлебное оскудение?..
Давненько я эту загадку разгадываю вместе с нашим писателем Иваном Егоровичем Кукориным, да с учителем истории Николаем Ивановичем, да и со своим тезкой, ученым печником Колей Умным. Что это за дыра?.. Бывшие райкомовцы, сотрудники районной газеты, и новой власти чины, каменщики, шоферы, колхозники, тоже бывшие, библиотекари, бухгалтеры, сторожа, врачи с медсестрами, паромщики, пенсионеры, учителя и прочие уездные люди: пересмотреть бы их всех, налицо, как в книге разрядной сказывалось, – чтобы ведома была в людях кривда и правда, и что откуда – в их души исходит, и чтобы в плен и в расхищение православных крестьян (христиан) не выдать.
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
***
Взгляни во тьму. Ты видишь лица
Угрюмых сверстников своих?
Они хотели бы родиться,
Но ты родился вместо них.
Ты оттеснил их в область мрака
И черной зависти к тебе –
И каждый воет, как собака,
По неслучившейся судьбе.
И смотрит, смотрит, смотрит тихо
Из безутешной темноты,
Как ты проматываешь лихо
Его слепящие мечты…
Ты рожден, ты воплотился, а они – нет, и этот факт вызывает у них смертельную зависть к тебе. Ты можешь жить: говорить, любить, мыслить, рожать и растить детей, путешествовать… а они могут только наблюдать за тобой, только смотреть на тебя из вечной тьмы. Они злобно смеются над тобой, когда ты совершаешь ошибки, они исходят желчью, видя, какую полноту счастья ты порой испытываешь, их сознание – один сплошной, громадный вопрос, обращенный к Богу: почему на свет рожден ты, а не они? чем ты лучше них? что они такое сделали, за что были лишены счастья земного рождения?
Может быть, и тебе, счастливцу, пора задать какие-то вопросы? Для начала – самому себе. В самом деле: почему рожден именно ты? какие надежды Господь может связывать с твоим приходом на Землю? что доброе, высокое, великое ты призван тут совершить? И как тебе вести себя здесь, чтобы с максимальной полнотой использовать этот чудесный дар, которым ты наделен – земную жизнь? как не растратить его впустую?
Может быть, тебе поможет знание о незримой толпе невоплотившихся, смотрящих на каждый твой шаг, оценивающих каждый твой вздох…
***
Не помогай другим самцам,
Своим участьем не калечь их,
Пусть каждый выживает сам
В угрюмых джунглях человечьих!
Так говорил мне старый вор,
Блестя улыбчивым оскалом.
И не пойму я до сих пор:
Вредил мне – или помогал он?
Альтруизм, проявляемый тобой по отношению к твоему соседу по планете, такому же самцу, как и ты, в конечном счете губит этого соседа, поскольку создает у него ложное представление о реальных взаимоотношениях людей в человеческом стаде (в частности, о взаимоотношениях самцов). И это ложное представление однажды сыграет с твоим соседом злую шутку, выйдет ему боком. Так твое добро обернется злом.
Об этом говорит моему лирическому герою старый вор – и, кажется, из самых добрых побуждений. Похоже, он желает добра герою, хочет помочь ему выжить среди себе подобных… Но получается, что вор, проповедующий примат звериных законов, выступает тут в роли альтруиста, – противореча, таким образом, собственной проповеди.
А что, если вор хитрит? Что, если на самом-то деле он уверен в спасительности альтруизма – и, публично проповедуя обратное, просто стремится заложить в сознание возможного конкурента саморазрушительную логику?
Об этом я и размышляю в своем стихотворении.
ЗЕЛЕНЫЕ СОПКИ
Я не скрою, что другом
мне Север суровый не стал,
беспощадною вьюгой
он вирши мои освистал.
Но однажды весною,
наверное, всё ж неспроста
он открыл предо мною
свои потайные места.
Из глубокой долины
неслышно поднялся туман,
оголив по вершины
заросших холмов караван,
и на зелени яркой,
где был у тумана ночлег, —
словно колотый сахар,
остался нестаявший снег.
Мир был чистым и робким…
И я не пытался понять,
где норвежские сопки,
где наша холмистая рать, –
так необыкновенно
они той весною цвели
на краю континента,
в краю пограничной земли.
Такие мгновения были нечастыми – но они были. Вдруг сквозь серые небеса пробивался луч неяркого северного солнца, освещая весеннюю сопку, – и я обнаруживал, что эта мрачная земля может быть красивой. Я забывал о ненавидящем меня комбате и о тяготившей мою душу угрюмой тоске, я становился добрым, доверчивым, светлым – таким, каким был до армии…
Но небеса вновь превращались в серое тесто, а командир моего батальона вновь грозился отправить меня сначала на «губу», а потом и в дисбат.
Он не шутил, мой комбат. И замполиту стоило большого труда убедить его, что такие, как я, тоже нужны родине.
***
Тянет кровью из леса туманного…
Молодой, отдыхай под кустом!
Самка выберет старого, драного,
С переломанным жизнью хребтом.
Не за то, что угрюмо оскалены
Два клыка, пожелтевших навек, –
За его золотые подпалины,
За глаза, голубые, как снег.
Выбрать-то она выберет, конечно, – куда ж ей деваться от твоего бешеного напора, от проницательного ума и щедрого таланта, от замечательных твоих золотых подпалин? Только вот молодые волки никуда из вашего леса тоже не денутся – отдохнут чуть-чуть под кустом и снова начнут обхаживать твою избранницу. Не уследишь, не запрешь на замок, пояс верности не заставишь носить насильно. Чего ж ты хочешь, старче: социобиология в вашем туманном лесу как рулила, так и рулит. И будет рулить.
Но как же быть? – вопрошаешь ты. Ведь она, юная и прекрасная, свой выбор уже сделала, всё у вас сложилось, срослось, вот уже и волчатки маленькие в вашей семейной норе визжат и поварчивают… как бы всё это законсервировать, а?
Спроси меня, серый, – того, кто написал это стихотворение. И я отвечу тебе словами старинной русской песни. Прищурю глаза, тряхну остатками некогда буйной золотой шевелюры, опрокину стопку – и начну тихонько:
Живет моя отрада
В высоком терему.
А в терем тот высокий
Нет хода никому…
Понял подсказку, серый? Запри ее в тереме своего ума и таланта, влюби ее в свою неповторимую личность, добейся того, чтобы она сама навсегда надела на себя тот самый, средневековый пояс. И тогда она будет поплевывать из высокого терема на истекающих слюной молодых волков.
Но если у тебя, кроме переломанного хребта, оскаленных клыков и подслеповатых глаз, ничего больше нет, – тогда извини, братишка. Нет терема, нет и отрады. Отдыхай под кустом.
МОИ ПОДРУЖКИ
Мои подружки старятся стремительно…
Давно ль они на ножках молодых
Цвели и пахли? Даже удивительно,
Как скоро увядает прелесть их!
Ни свежести уже, ни грациозности,
Двадцатилетним стало двадцать шесть…
А я не старюсь. Я всё в том же возрасте.

