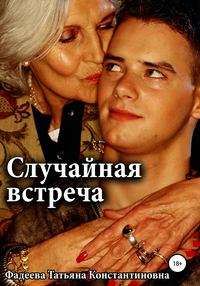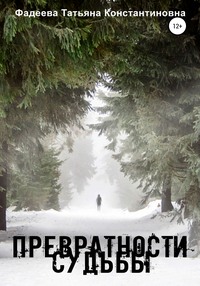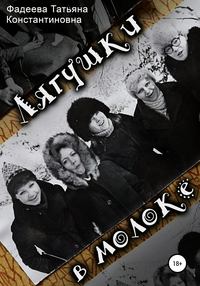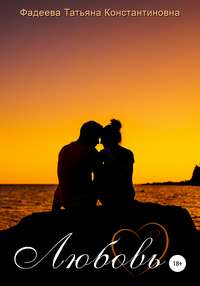Все к лучшему!
Девяносто девять процентов детей после развода воспитывали мамы, большая часть отцов просто отстранялась. В лучшем случае платили алименты. И не дай бог родить вне брака. Женщина, родившая внебрачного ребенка, становились объектом всеобщего осуждения. Тогда это было неприлично. А сейчас это уже вполне обычное явление.
Второй брак
Второй муж Виты имел романтическую профессию, был вторым штурманом, моряком загранплавания. После шести месяцев работы ему полагались три месяца отпуска. Вита ждала его верно, «сердце ее не было склонно к измене». Она не умела вести одновременно параллельные, любовные истории. По мнению Виты, в них всегда кто-то один должен быть любим, другой противен. Терпеть «противное» в своей жизни она не хотела.
Быть женой моряка не просто. Не только потому, что ты перестала любить выходные дни и праздники, которые надоело проводить одной или с подругами. А потому еще, что ты молода и природа требует свое, а редкие встречи с мужем не компенсируют нереализованные желания.
Тем не менее, позже Вита с удовольствием вспоминала этот период жизни, когда приходилось мчаться на «перекладных», на короткие встречи с мужем – моряком. А страна тогда была большая, многонациональная. В Союз Советских Социалистических входило пятнадцать республик. Для поездки в Прибалтику, Украину, Белоруссию, Азербайджан, Армению или Грузию не нужно было оформлять заграндокументы. Сел в поезд или на самолет и вперед за новыми впечатлениями!
Где они только ни побывали! В Таллине, Риге, Вильнюсе, Калининграде. Отдыхали в Сочи, Ялте, Гаграх, Паланге, Юрмале. Все разве упомнишь!
У Виты появились первые по настоящему красивые импортные вещи, косметика, французские духи, изящная удобная обувь, на боны и чеки, покупаемые в специализированных магазинах «Березка» или «Альбатрос». Впервые попав в такой магазин, Вита получила культурный шок, она даже представить себе не могла, что существуют такие! красивые вещи и такие! деликатесы, вина, дефицитные предметы домашнего обихода, бытовая техника. У нее появились первые новые джинсы прямо оттуда, из-за границы, а не купленные у фарцовщиков за месячную зарплату.
Как же была поражена и возмущена мама Виты, когда однажды застала ее в ванной комнате за вытиранием пемзой новых джинсов!
Потертые джинсы были самыми модными. Способность протираться как раз и была признаком настоящих джинсов. Целые часы уходили на то, чтобы с помощью пемзы создать на джинсах стильные потертости.
Но с точки зрения мамы, получавшей не очень большую зарплату переводчика, портить, таким образом, новую вещь было преступлением.
Мода на джинсы в Союзе достигла своего пика примерно в восьмидесятые годы. Но ни одна фабрика в стране их не производила. Позволить себе легально обзавестись вожделенными штанами могли редкие счастливчики: моряки, дипломаты, актеры или спортсмены, которым приходилось часто бывать за границей по роду своей деятельности в странах загнивающего капитализма. Который «загнивал, загнивал да загнить все никак не мог». Но все они подвергались тщательному таможенному досмотру. И если одну-две пары джинсовых брюк еще можно было беспрепятственно провезти через границу, то три-четыре уже вполне могли «потянуть» на статью о спекуляции.
Цена за джинсы достигала двухсот пятидесяти рублей. А это две средние зарплаты советского служащего. И все равно, спрос превышал предложение. Только синий цвет считался настоящим джинсовым. Молодежи больше всего понравились джинсы таких марок, как «Wranglеr», «Lеe Riders, «Levi Strаuss». Самым крутым был человек в джинсах «Montana». Эти модели были самыми дорогими. Особо ценились джинсы, которые обтягивали тело подобно второй коже, их натягивали влажными в положении лежа.
Однажды Вита и ее муж – моряк гостили летом у его родителей в небольшом поселке городского типа под Москвой. Свекор внимательно рассматривал Виту, одетую в майку и джинсы с ног до головы, потом сказал: «Вот ведь времена настали, раньше мы, выбирая девушку, видели только лицо, и главным было, чтобы нос не сильно курносым был, а теперь ну прямо все на виду».
Оклады у советских моряков были маленькие. Как у Довлатова: Деньги-то хорошие получаешь? Хорошие, только мало.
Жили в основном за счёт набегавшей в рейсах инвалюты или чеков. Официально один чек приравнивался к одному советскому рублю. На самом деле с рук один чек стоил пятнадцать «деревянных». Спрос рождает предложение, поэтому чтобы хорошо отовариваться, надо было знать спрос внутреннего рынка. Например, рейсы по Волге к Каспийскому морю в сторону Ирана – это гипюр, ковры, икра, а Балтика – джинсы, парики, женские сапоги, подержанные автомашины. Жены в телеграммах и телефонных переговорах давали соответствующие инструкции. Что и сколько взять для семьи, а что на продажу.
За это и терпели все лишения, связанные с работой на флоте. Долгие разлуки с родными и близкими. Непогода с её муссонами, циклонами, тайфунами и другими штормами. Частая смена климатических зон и часовых поясов. Постоянное воздействие железной коробки судна, с меняющимися магнитными и электромагнитными полями.
На теплоходе «Балтийский», например, численность экипажа обычно составляла семнадцать человек. И вот полгода каждый день с утра до вечера в ограниченном пространстве одни и те же люди, одни и те же лица, разговоры, анекдоты… Единственная женщина в команде повар – кок. Кстати, мужу и жене не разрешалось работать на одном судне, возможно, чтобы за границу не сбежали.
Однажды теплоход, на котором работал муж Виты, прибыл на рейд порта Венспилс. В небольшой гостинице неподалеку от морского порта уже несколько дней томились жены моряков, приехавшие из разных городов страны. Женщины соскучились и хотели побыстрее увидеться с мужьями, но попасть на судно можно было лишь после длительного таможенного досмотра. Чтобы ускорить процесс дамы скинулись на ящик коньяка для таможенников. Виту командировали на таможенном катере на теплоход. Муж Виты рассказывал позже: «Стою на вахте, на капитанском мостике, смотрю в бинокль, и вдруг вижу несется к судну катер. Рядом с таможенником, стоящим за рулем, дивное видение – прекрасная незнакомка с развевающимися на ветру темными, длинными волосами. Подумал про себя: «Такая баба! Жаль, не моя!». Катер подошел ближе, иллюзия развеялась, а сердце от счастья чуть не выпрыгнуло из груди: «А баба-то моя!». Потом долго смеялись всей командой, моряки все повторяли: «Твоя-то тебя и на дне моря достанет, если ей надо будет».
Вспоминая события тех лет, Вита понимала, что отношения с мужем – моряком нельзя было назвать безумной любовью или неземной страстью с ее стороны. Скорее это была высокая степень уважения и взаимопонимания, когда люди чувствуют друг друга на расстоянии. Кроме того, Вите всегда было приятно появляться на людях рядом со своим супругом, ловить завистливые взгляды, в которых читалось: «Красивая пара!». Высокие гармоничные отношения, спокойный долгосрочный союз. Единственной проблемой было отсутствие детей. Пока муж находился в рейсах, Вита предприняла несколько попыток обследоваться по поводу бесплодия. Месяцами лежала в больницах, вызвав откровенное недовольство руководства на работе, связав огромное количество свитеров, носков и рукавиц, но, не добившись внятного ответа, в чем, же все – таки дело.
По мнению пожилой гинекологини, много повидавшей на своем веку, все было очень просто: нужен был муж, не уезжавший бы, так надолго.
«Зато образование в СССР было бесплатное»
Работа монтажниц требовала точности и внимания. Присутствие незанятых делом людей в монтажных помещениях было нежелательно. Поэтому монтажной группе выделили на первом этаже комнату отдыха! Помните «Служебный роман», одну из лучших комедийных мелодрам социализма?
«Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай. Традиция. Ритуал», – говорит Новосельцев.
Так вот, перед тем, как приступить к своим трудовым обязанностям, в комнате отдыха девушки совершали священный для советских учреждений утренний ритуал. Красились, наводили марафет, накладывали макияж, занимались визажом, как хотите, так и назовите. Все происходило точно так же, как в одном из эпизодов этого фильма.
«А потом работники работали, начальники руководили, каждый в меру сил занимался своим делом».
В свободное от работы время Вита и Лена Кирхонен писали здесь конспекты, курсовые и дипломные работы, поскольку заочно учились в вузах. А также шпаргалки по совершенно забытым теперь, искусственно созданным, по мнению Виты, наукам, таким, как диалектический материализм, исторический материализм, научный коммунизм. В нашей жизни все проверяется временем и видимо главную проверку эти науки не прошли. В программах современных вузов их давно нет.
Хотя, что говорить, заочники были студентами, которых не озадачило бы предложение «препода» сдать китайский язык, они не стали бы дискутировать, изучали – не изучали, они просто спросили бы в какую аудиторию идти сдавать. Что им диамат с истматом и научным коммунизмом в придачу. Отношение к этим наукам и тогда у студентов было ироничным, скептическим, анекдотов ходило много. Из уст в уста передавалась такая история.
Студент сдает экзамен по научному коммунизму.
Его спрашивают: «Что вы можете сказать о Карле Марксе?»
Находчивый студент говорит: «Великий Карл Маркс умер! Почтим его память минутой молчания».
Комиссия встала, никто не осмелился возразить. Почтили.
«А кто такой был Ленин?»
«Ленин умер, но дело его живет. Почтим память великого вождя минутой молчания!» Встали. Почтили. Профессор шепчет членам комиссии: «Ставьте ему тройку, а то сейчас заставит петь Интернационал, а я только первый куплет знаю».
Компьютеров в каждом доме еще не было, конспекты писали от руки. Теперь, когда большая часть офисных сотрудников, привыкнув работать на компьютере, вообще разучилась водить шариковой ручкой по листу бумаги, трудно представить, сколько тонн общих тетрадей было исписано студентками за пять лет учебы. Вита и Лена дружно придерживались мнения, что нужные науки надо учить. На экзамены по не нужным, о которых в дальнейшей жизни вряд ли вспомнишь, следует написать шпаргалки.
Сейчас в сети Интернет можно найти ответ на любой вопрос, готовые курсовые и дипломные работы и даже готовые шпаргалки. Мало того, можно купить диплом. Таких предложений пруд пруди. Студентам же докомпьютерной эры приходилось проводить огромное количество времени в библиотеках, штудируя горы литературы.
Вита очень любила бывать в Публичной библиотеке, ее завораживала чудесная атмосфера и тишина читальных залов с длинными рядами столов, на которых стояли строгие настольные лампы с зелеными, «ленинскими», стеклянными плафонами. Удивительной была и необычная для эпохи малогабаритных квартир, архитектура здания с балюстрадой и торжественной широкой лестницей. Отдельное удовольствие доставляло общение с библиотекарями, по-настоящему интеллигентными людьми, казавшимися Вите особенной профессиональной кастой.
Библиотечные работники беззаветно преданны своему делу. Они не строят никаких иллюзий на предмет того, что их скорбный труд когда-нибудь будет поощряться на достойном уровне. Знают, на что идут и ведь идут же! Это поистине последние русские святые. А питаются, похоже, исключительно Святым духом.
Вита была твердо уверенна, не смотря на то, что образование тогда было бесплатным, качество его зависело от самого студента. Кто хотел учиться, тот учился. О сдаче экзамена или зачета за деньги даже не слышали. Платных факультетов не было. Толщина кошелька, разумеется, родительского, на результаты, отраженные в зачетке, не влияла.
Обеды
Еще в комнате отдыха компания два раза в день пила чай, иногда обедала. Об этом стоит рассказать поподробнее.
В городе конечно были ведомственные столовые и в некоторых даже вкусно кормили. Но в окрестностях ГТРК находилось несколько рабочих столовок. Во всех примерно один и тот же весьма ограниченный ассортимент блюд и отвратительное качество пищи. Иногда возникал вопрос, каким образом можно до такой степени испортить простые продукты, типа гречки или макарон. Вонючие залы с грязными пластиковыми столами, усыпанными крошками. Перекрученные алюминиевые ложки и вилки, с торчащими в разные стороны зубьями, горой сваленные в засаленные алюминиевые тазы. По своим важным делам особо не прячась, безнаказанно снуют не пуганные, породистые тараканы. Бумажные салфетки и туалетная бумага повсеместно отсутствуют. Одним словом «тошниловки».
Популярный лозунг, призывающий сознательных граждан экономить бумагу, гласит: «В стране напряженка с бумагой!».
Счастливцы, прикупившие по случаю туалетную бумагу, гордо тащили ее веревочные связки, надетые на шею, как огромные бусы. Добытчики! Так некогда купцы, возвращающиеся с ярмарки, несли баранки, нанизанные на бечевку. На улице никто не удивлялся, лишь спрашивали: «Где брали?».
А салфетки, если конечно они появлялись, в столовых иногда разрезались даже не на квадратики, а на треугольнички, чтобы на дольше хватило.
Про расположенную неподалеку столовку для персонала больницы ходила злая шутка, что там готовят из того, что удаляют в хирургическом отделении.
В Доме радио работал неплохой буфет, но в обеденный перерыв там образовывалась жуткая очередь, особенно, когда на перерыв с репетиций отпускали симфонический оркестр. Вот и приходилось иногда приносить нехитрую еду из дома и есть холодной, потому, что до появления микроволновых печей оставались еще десятилетия.
Зарабатывали монтажницы сравнительно неплохо. Советский инженер получал зарплату сто двадцать – сто тридцать рублей в месяц. Приемлемой считалась сумма от ста восьмидесяти рублей в месяц. Двести двадцать считались очень хорошим заработком, а суммы, превосходящие двести пятьдесят рублей, казались фантастическими. Рабочие зарабатывали гораздо больше инженеров, людей, получивших высшее специальное образование.
При начислении зарплаты монтажниц учитывались вредные условия труда и премиальные, поскольку все как одна, девушки являлись «Ударниками коммунистического труда». Это звание присваивали тем, кто на работу не опаздывал, не прогуливал, задания руководства выполнял качественно и в срок согласно графику.
Фотография Виты несколько лет не сходила с «Доски почета» предприятия. Девушки искренне гордились званием «Ударника» и имидж образцово – показательных сотрудниц носили с честью. Премию, как и зарплату, получали каждый месяц. В конце года на радость всему коллективу выдавалась поощрительная тринадцатая зарплата.
Страдать «вещизьмом» в стране с застойным типом экономики не представлялось возможным. Повышенной склонностью к бережливости монтажницы не отличались. Поэтому компания частенько обедала в ресторанах. Вызывали такси по телефону. На пять человек удовольствие было недорогое. В такси, а тогда все такси были марки «Волга», помимо водителя могли разместиться только четыре пассажира. Одна из девушек, чаще это была Леночка Иванова самая маленькая из всех, чтобы ее не было видно, ложилась сидящим на заднем сиденье на колени. Усаживались в машину шумно и весело, поэтому ни один таксист, ни разу не отказался везти неположенное количество симпатичных пассажирок.
Обеды были вкусными и не дорогими, как правило, комплексными. Салат, суп, мясо или рыба с гарниром и компот или кофеек. Меню такого обеда формировалось заранее, и приготовлен он был в расчете на людей не располагающих большим запасом времени. Сейчас такой обед называют «бизнес-ланчем».
Частенько на стол, за которым обедала компания, официанты приносили бутылки с коньяком или шампанским, присланные щедрыми гостями ресторана, подгулявшими уже, лицами кавказской национальности. Но монтажницы были девушками строгих правил и гордо удалялись, не прикоснувшись к подаркам, хотя, что скрывать, слегка польщенные таким вниманием.
Компания
Они были молоды и энергичны, заняты интересной работой, неплохо по тем временам зарабатывали и конечно пользовались успехом у противоположного пола, поэтому неизменно пребывали в жизнерадостном настроении! Так много и искренне, как в тот период времени Вита не смеялась никогда. Весело было встречаться с подругами утром у проходной, идти впятером домой после работы. Обсуждать прочитанные книги и просмотренные фильмы, свидания и кавалеров, а чуть позже семейные проблемы и радости.
Читали очень много. В семье Виты получали по почте подписки журналов «Иностранная литература», «Новый мир», «Юность», «Вокруг света», «Огонек», «Литературную газету». Подписки не были дешевыми, поэтому их чередовали, например, в этом полугодии подписываемся на «Новый мир», «Юность» и «Октябрь», в следующем – будут другие издания. Номера таких литературных журналов советского времени, как «Новый мир» или «Иностранная литература» передавались из рук в руки, постепенно истрепываясь до предела. За ними охотились, их давали почитать на одну ночь. На них всеми правдами и неправдами стремились оформить подписку – она была лимитирована.
Еще подруги вместе ходили в сауну, очень модным стало это развлечением в те годы, купались в бассейне, ходили в кино, бары или рестораны, реже – в театр, отмечали праздники, ездили на пикники или на дачу родителей Виты. «Тусовались», одним словом. Правда этого слова в их лексиконе тогда не было, а зря, очень точно выражает смысл происходившего. Причем веселье никогда не требовалось подогревать выпивкой.
Наверное, именно в то «застольное», как теперь говорят время, возникла масса поговорок и анекдотов на тему пьянства: «Без бутылки не разберешься», «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет» или «По рублю, и в школу не пойдем». Вокруг выпивали часто и много, по малейшему поводу и без повода. С сантехником или водопроводчиком рассчитывались по таксе бутылками. Много пили в командировках. Выпивали на праздничных демонстрациях и субботниках. Непьющие люди, так называемые «язвенники или трезвенники» вызывали раздражение окружающих. Про них говорили, что на халяву пьют и трезвенники с язвенниками. Не пить было неприлично, не по – товарищески как-то, не по – русски. Это при том, что за семнадцать лет правления Брежнева прошло три антиалкогольные кампании. Вообще же и в семидесятые и в восьмидесятые годы собирались часто, часами спорили обо всем на свете, много ели и пили. Алкоголь ведь в России – главный коммуникатор.
В кинокомплексе некоторые отделы «сбрасывались по рублю» в обеденный перерыв чуть ли не каждый день, следуя поговорке «Если пьянка мешает работе, то ну ее, эту работу». Непосредственная Витина начальница, Хильда Петровна большая любительница выпить, не понимала, как можно пребывать в хорошем настроении в трезвом состоянии, поэтому монтажниц не любила и при каждом удобном случае интересы их ущемляла. Особенно это касалось поездок в подшефные колхозы или на овощебазы. Тогда убирать урожай в совхозах направляли сотрудников всех учреждений, предприятий, заводов. Ехать естественно никому не хотелось, но каждому необходимо было отработать положенное количество дней.
На уборочную регулярно выезжало все трудоспособное население города. Для студентов выезд в колхоз был нормой, и в сентябре они отправлялись не в аудитории, а на поля. Мобилизовали в колхозы даже солдат. С крупных городских предприятий отправляли целые автоколонны.
Общими усилиями собирали рекордные урожаи. В новостных программах по телевидению и радио, в газетах радостно сообщали о великих победах на сельскохозяйственном фронте. Но из-за неправильного хранения на овощебазах половина выращенного картофеля и овощей сгнивала. И все те же служащие, рабочие, студенты и солдаты зимой отправлялись в овощехранилища перебирать овощи. Монтажниц назначали на сельхозработы и на переборку овощей, как самых молодых и вне очереди.
Теперь Вита не могла уже вспомнить, кому из ее подруг пришла в голову идея осуществить страшную месть Хильде Петровне.
Здесь нужно кое-что объяснить. Кинопленка очень чувствительна к механическим повреждениям, поэтому работы с ней по инструкции должны производиться в специальных белых хлопчатобумажных перчатках. В реальности же пользоваться ими было невозможно, потому, что перчатки были одного самого большого размера.
Вот такую перчатку в один из вечеров, перед уходом домой монтажницы набили ватой и подвесили на нитке сверху в дверном проеме, примерно на уровне головы входящего.
На следующий день, как обычно, будучи с бодуна в плохом настроении, Хильда Петровна, как злобная фурия влетела с утра в монтажную. Дабы разрядиться посредством очередного громкого разноса.
Страшная месть свершилась!
А страшной она оказалась еще и потому, что голову фурии всегда украшал модный тогда парик, и когда белая хлопчатобумажная рука, провела ладонью по начальничьей голове, парик свалился на пол, обнажив почти голый череп, местами покрытый легким светлым пухом. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных.
Жестокость этой глупой шутки Вита осознала гораздо позже, когда извиниться было уже невозможно. Вита не вспомнила, чем закончилась эта история, но если бы чем-то серьезным, то, наверное, в памяти всплыли бы ее последствия. Как ни странно, преследования начальница прекратила и давала монтажницам исключительно хорошие характеристики.
«Руссо туристо – облико морале»
А они были очень нужны, потому, что тогда же три Лены, Галя и Вита впервые побывали во время отпусков за границей, естественно в странах социалистического лагеря.
К середине восьмидесятых к социалистическим относилось пятнадцать стран, среди которых наиболее популярными у советских туристов были Болгария, Венгрия, Румыния, ГДР, Польша и Чехословакия. Капиталистические страны в те времена посещали избранные. Всем остальным преграждал дорогу железный занавес. Через него не могла бы пролететь даже птица.
Железный занавес – это долгое ограничение контактов советских людей с иностранцами. Видимо, поэтому советские граждане имели сильно искаженные представления о людях из других стран. Каждого иностранца, воспринимали как инопланетное существо. Казалось, что все иностранцы богаты, как Рокфеллер. Возможно, так казалось потому, что они были лучше одеты, вели себя свободнее, но дело не только в этом. Народы, сумевшие организовать в своей стране устойчивый порядок вызывают у русских уважение. Но сам собой возникает вопрос: мы-то почему так не можем?
Переезжая границу с Финляндией, всегда поражаешься: с нашей стороны – грязь, неустроенность, с той – прямо с границы начинаются аккуратно подстриженные газоны, чисто вымытые с шампунем улицы. Финнов считают скучноватыми людьми, но все вместе они сумели построить богатую материальную культуру, организовали всеобщее уважение к закону. В России же даже бомжи зачастую яркие личности, не говоря об остальных гражданах, а жизненный уровень всех вместе оставляет желать много лучшего. Чем же мы хуже?
Собрав массу справок и справочек, тщательно проверенный всеми полагающимися органами и инстанциями, потенциальный турист, который «никогда, ничем, нигде», перед отъездом подвергался строгому инструктажу, усваивая простые правила – больше трех не собираться, меньше трех от группы не отрываться.
Короче, как говорил герой Андрея Миронова в известном фильме «Бриллиантовая рука»: «Руссо туристо – облико морале».
Надо было видеть, как трепетно компания собирала счастливицу, выезжавшую за рубеж. Девушкам не хотелось за границей ударить в грязь лицом, да и «за державу было обидно». Без сомнений и жалости отдавали самые красивые вещи из своего гардероба, кто сумочку, кто кофточку, кто босоножки. Одни и те же вещички побывали в разных странах, часто отдельно от своей хозяйки.
Монтажницы даже одевались тогда не как «инкубаторские» – неприметно, скромненько, серенько, а в своем, присущем только компании стиле. Многие вещи были мастерски связаны или сшиты своими руками. Сиротский ширпотреб брежневской эпохи искрометная фантазия превращала во вполне приличные вещи, как им тогда казалось.
Впервые отправляясь за границу, девчонки самоуверенно надеялись «взлохматить» старушку Европу, но кудри дыбом встали у них самих. Даже Вите, избалованной мужем-моряком, первые поездки за границу принесли шок, что говорить об остальных. Прилавки магазинов в странах социалистического лагеря ломились от изобилия дефицитных на родине товаров народного потребления. Продуктовые витрины с огромным ассортиментом сыров, колбас и таких деликатесов, которых отродясь не видали на родине, да что лукавить, даже не предполагали, что такая еда существует, приводили аскетичных русских туристок к симптомам тихого помешательства.