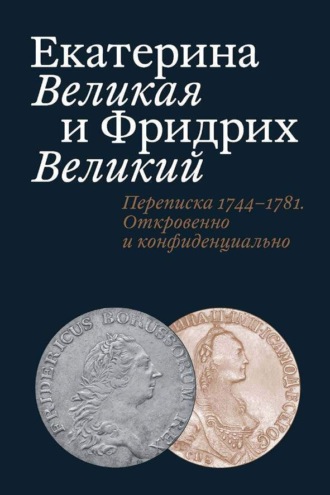
Екатерина Великая и Фридрих Великий. Письма 1744–1781. Откровенно и конфиденциально

Екатерина Великая и Фридрих Великий. Переписка 1744–1781. Откровенно и конфиденциально
Автор-составитель Татьяна Абрамзон
«Письма суть разговоры между отсутствующими, почему и выражения в них должны быть почти такия ж, какия в разговорах употребительны. <…>
В письме мы как бы выставляем собственный свой портрет, и одной ложной черты может быть довольно к тому, чтоб другому подать о себе худое мнение и так письма должно писать несколько лучше, нежели говорят»
Новейший всеобщий секретарь, или Полный письмовник… (М., 1810. Ч. 1. С. 1–2)Издание данного произведения выполнено при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и Центра немецкой книги в Москве

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

© Абрамзон Т. Е., 2022
© ООО «Бослен», 2022
Введение
Переписка двух великих исторических личностей – всегда интрига, всегда сюжет.
Особенно если это монархи двух держав, которые то дружат друг с другом, то дружат «против» кого-то, то, увидев возможности новых союзов с новыми выгодами, изменяют клятвам и нарушают договоры «о вечной преданности». Особенно если ожидания короля, полагавшего с помощью династического брака укрепить и обезопасить свои позиции на европейской сцене, обмануты странным поворотом истории: верная кузина, с уготованной ей ролью супруги сначала великого князя, позже российского императора, превращается в императрицу, которая повелевает народами, армией и флотом, пишет законы, диктует условия соседним государствам.
Переписка Фридриха II и Екатерины II – еще какая интрига?!
Фридрих Великий, по прозвищу «старый Фриц», был королем малого государства и большой армии, без малого пятнадцать лет провел в сражениях, на коне, с оружием в руках, в битвах и бивачном дыму, превратил маленькую Пруссию в сильного игрока на европейском пространстве. В учителях и менторах Фридриха были Вольтер и Монтескье. Фридрих слагал стихи на французском, играл на флейте, сочинял музыку. Он «не только сделал Пруссию как протестантскую державу одною из великих держав Европы, но он был и королем-философом – совершенно своеобразное и единственное явление нового времени. <…> он обладал сознанием всеобщности, в которой выражаются самое глубокое в духе и себя сознающая сила мышления»[1].
Екатерина Великая, тоже «философ на троне», долгое время верила в то, что монарху «нужно просвещать нацию, которой должен управлять», «ввести добрый порядок в государстве, «поддерживать общество и заставить его соблюдать законы», «способствовать расцвету государства и сделать его изобильным», «сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям». Многое из этих идеальных устремлений российской императрицы удалось воплотить.
Оба правителя вняли вольтеровскому призыву «Осмельтесь мыслить самостоятельно!» Оба много и с удовольствием писали.
Кстати, вскоре после смерти Петра III, когда отношения России и Пруссии балансировали на грани войны и мира, новоиспеченная императрица велела прусскому посланнику при российском дворе графу Гольцу принести ей письма Фридриха II, адресованные ее супругу, теперь уже покойному. Вдруг в них «были вещи нелестные для нее», как говорили «злонамеренные лица»? Но, прочитав все письма прусского короля к своему фанатичному поклоннику, Екатерина осталась ими «чрезвычайно довольна». Фридрих захлебывался в благодарности, лести и просьбах к Петру III, а Екатерину не помянул ни разу – ни добрым словом, ни худым. Она была ему не интересна. Кто бы мог предположить, что пройдет всего полгода, как ситуация изменится, и Екатерина станет самым желанным адресатом Фридриха на ближайшие двадцать лет?..
Переписка прусского короля Фридриха II и российской императрицы Екатерины II, длившаяся с разной степенью интенсивности с 1744 по 1781 год, насчитывает более 140 писем. Геополитические интересы двух монархов и общепринятые стандарты посланий того времени определяют темы и тактики: откровенные комплименты, скрытые угрозы, заверения в вечной дружбе, обсуждение союзов, аргументация принятых решений. И, конечно, про личное: взаимный обмен подарками, болезни, планирование новых династических браков, приезды родственников с обеих сторон в гости друг к другу и многое другое. Отметим, что вся корреспонденция прусского короля и российской императрицы велась по-французски, на языке Вольтера, Дидро, Монтескье, Д’Аламбера, на языке «властителей дум» XVIII века.
Впервые переписка Фридриха II и Екатерины II стала доступна читателю во второй половине XIX века, когда Императорское Русское историческое общество, организованное в 1866 году, поставило своей целью собрать, систематизировать и подготовить к печати дипломатические бумаги, в том числе бумаги Екатерины II. Так, Я. К. Грот курировал подготовку корреспонденции российской императрицы с энциклопедистом Ф. М. Гриммом. Осуществить публикацию переписки прусского короля и российской императрицы помогли «железные канцлеры» Германии и России, Отто фон Бисмарк и Александр Михайлович Горчаков, «заклятые друзья» на дипломатическом поприще: «Письма императрицы Екатерины II сообщены из государственного архива в Берлине имперским канцлером князем Бисмарком, а письма короля Фридриха II сообщены из государственного архива в С.-Петербурге государственным канцлером князем А. М. Горчаковым»[2]. Так, в 1877 году переписка двух монархов вышла в свет в двадцатом томе «Сборника Императорского Русского исторического общества» на двух языках – французском и русском.
Известно, что Императорское Русское историческое общество привлекало дополнительных сотрудников для перевода документов. Так, в «Деле об издании депеш прусских посланников в России в XVIII в.»[3], которое курировал Георгий Федорович Штендман, сказано, что «капитан-лейтенант Г. Вахтин переводил копии с депеш Сольмса к королю Прусскому Фридриху II и вообще… переписку короля с Сольмсом, за 1771 и 1772 годы, сообщенных Обществу из берлинского архива». Однако в 1877 году состоялось всего одно заседание членов Совета императорского русского исторического общества, которое проходило в квартире секретаря Общества А. А. Половцова, располагавшейся «на Большой Морской, в доме под № 54»[4]. В протоколе этого собрания указано, что Совет обсуждал на нем вопросы, связанные со сбором исторических источников и подготовкой к печати новых томов «Сборника». В нем, к сожалению, не указано имя переводчика посланий Фридриха и Екатерины с французского на русский.
В нашей книге письма Фридриха и Екатерины публикуются на русском языке по изданию: Переписка императрицы Екатерины II с королем Фридрихом II // Сборник Императорского Русского исторического общества. 1877. Т. 20. С. 149–396.
Как устроена книга и каким образом можно ее читать?
Чтобы услышать голоса и слова двух монархов, как будто ведущих диалог друг с другом на расстоянии, то из Потсдама и Санкт-Петербурга, то из Москвы и Берлина, можно открыть книгу на любой странице, на любой паре писем Фридриха и Екатерины, но непременно паре, тем более, что в переписке редкий случай, когда один из монархов отправляет одно сообщение вдогонку предыдущему. Хотя бывает, и для этого есть интересные или веские резоны.
Чтобы оценить откровенность монархов по отношению друг к другу, можно сопоставить строки писем с другими документами эпохи (донесениями, распоряжениями, письмами, реляциями), фрагменты из которых предложены в постраничных сносках к посланиям, и тогда – на пересечении взглядов и различных точек зрения – возникнут объемные образы не только авторов писем, но и исторических событий, о которых идет речь.
Чтобы понять, какие темы попадали в фокус обсуждения прусского короля и российской императрицы, такие как борьба за польскую корону, война с Турцией, оспопрививание Екатерины II или размышления о Елисейских полях Фридриха II, можно начать с чтения «сюжетов», а потом обратиться к письмам монархов.
Но чтобы увидеть захватывающие перипетии взаимоотношений Фридриха и Екатерины, как из «смиренной кузины» прусского короля Екатерина превращается в императрицу Российской империи и полноправного игрока в европейской геополитической игре за влияние и территории, как союзники балансируют между общим интересом и выгодой своих государств, как происходит охлаждение отношений и возникают новые альянсы, необходимо следовать хронологии – идти вслед за равновеликими Фридрихом и Екатериной от первых писем 1744 года до последних 1781 года.
Строка за строкой. Сюжет за сюжетом.
1744 год

Год, отмеченный обострением русско-прусских отношений. Усиление Пруссии в Европе, а также антироссийская политика Фридриха II в Польше, Курляндии, Швеции и Турции формируют в Петербурге представление о прусском королевстве как о враждебной России державе.
Назначенный в 1744 году послом в Берлине граф М. П. Бестужев-Рюмин и его брат – фактически глава российского внешнеполитического ведомства, канцлер А. П. Бестужев-Рюмин убеждали Елизавету Петровну, что Фридрих II имеет агрессивные планы присоединения Польской Пруссии и ряда других территорий в Европе, что растущая мощь Пруссии бросает вызов геополитическим позициям России и что в интересах Петербурга пресечь амбиции Берлина на региональное лидерство.
Фридрих II, уверенный в том, что именно Бестужевы-Рюмины ответственны за антипрусские настроения в Петербурге, стремился их подкупить или запугать, сообщив в Берлине М. П. Бестужеву-Рюмину, что ему известно о том, что А. П. Бестужев-Рюмин взял у англичан 100 тысяч гиней для создания в России проанглийской партии.
Однако все попытки прусского короля купить лояльность Бестужевых-Рюминых или дискредитировать их в глазах Елизаветы Петровны оказались тщетны.
В августе 1744 года, когда Фридрих II начал Вторую силезскую войну (1744–1745), Петербург выразил готовность оказать военную помощь своему главному партнеру в противоборстве с Османской империей – Австрии. И только отступление прусских войск из Богемии отсрочило вооруженное столкновение Пруссии и России.
№ 1 [5]
Великая княжна Екатерина Алексеевна – королю Фридриху II
Москва, 21 июля 1744 года
Я вполне чувствую участие вашего величества в новом положении, которое я только что заняла[6], чтобы забыть должное за то благодарение вашему величеству; примите же его здесь, государь, и будьте уверены, что я сочту его славным для себя только тогда, когда буду иметь случай убедить вас в своей признательности и преданности[7], с коими имею честь быть, государь,
вашего величества
смиренная и покорная кузина и слуга Екатерина.
Король Фридрих II – великой княжне Екатерине Алексеевне [8]
Мадам,
я считаю одним из самых счастливых дней в своей жизни тот, когда мне удалось возвести ваше императорское высочество в это достоинство. Я считал себя слишком счастливым, чтобы внести свой вклад в это дело, слишком счастливым, чтобы дать российской императрице, моему дорогому союзнику, и всей этой огромной империи, принцессу ваших достоинств, Мадам, дать спутника великому князю.
Я прошу вас поверить, что я принимаю участие больше, чем кто-либо другой[9], во всем, что касается вашей милой персоны, и что я всегда буду рад доказать вам, каков я, мадам,
ваш преданный и искренно любящий кузен,
Фридрих
Берлин, 5 августа 1744 года
Сюжет первый
О короле Пруссии и его «смиренной и покорной кузине и слуге»

Дэвид Матье.
Фридрих II прусский как молодой вождь.
1740-е гг. Фрагмент
К 1744 году Фридрих II точно знал, что «изо всех соседей Пруссии Российская империя заслуживает преимущественного внимания, как соседка наиболее опасная. Она могущественна и близка. Будущим правителям Пруссии также предлежит искать дружбы этих варваров»[10]. Его страшила и численность российских войск, и сильный флот, и жестокость казаков, неуправляемых и непредсказуемых. Нужно было приложить все усилия и сверхусилия во имя приобретения дружбы России. И случай к этому предоставился как нельзя более выгодный.
«Императрица Елисавета намеревалась в то время женить великого князя, своего племянника, дабы упрочить престолонаследие. Хотя ее выбор еще ни на ком не остановился, однако ж она склонна была отдать предпочтение принцессе Ульрике Прусской, сестре короля. Саксонский двор желал выдать принцессу Марианну, вторую дочь Августа, за великого князя, с целию приобрести этим влияние у императрицы. Российский министр, которого подкупность доходила до того, что он продал бы свою повелительницу с аукциона, если б он мог найти на нее достаточно богатого покупателя, ссудил саксонцев за деньги обещанием брачного союза. Король Саксонский заплатил условленную сумму и получил за нее одни слова»[11].
Фридрих II не мог допустить союза между Саксонией и Россией, скрепленного брачными семейными узами. И ему удалось многое из задуманного. «После того как императрица остановила свой выбор на принцессе Цербстской для брака с великим князем, уже легче было получить ее согласие на брак принцессы Прусской Ульрики с новым наследным принцем Шведским. Пруссия на этих двух бракосочетаниях основывала свою безопасность: принцесса Прусская у Шведского престола не могла быть врагом королю, своему брату; а великая княгиня Русская, воспитанная и вскормленная в Прусских владениях, обязанная королю своим возвышением, не могла вредить ему без неблагодарности. <…> Все вышеизложенные нами обстоятельства доказывают, что король Прусский не вполне успел в своих домогательствах, и что достигнутое им от России не совсем соответствовало его надеждам. Но важно было и то, что удалось усыпить на некоторое время недоброжелательство столь грозной державы; а кто выиграл время, тот вообще не остался внакладе[12].
Итак, письмо великой княжны Екатерины Алексеевны отправлено 21 июля 1744 года из Москвы в Пруссию, в нем благодарность за «участие» прусского короля Фридриха II в ее «новом положении» и надежды на то, что судьба предоставит ей случай доказать ему «признательность и преданность».
О каком «новом положении» идет речь?Месяцем ранее
28 июня 1744 года не стало на свете Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, лютеранки по вероисповеданию, немецкой принцессы из рода Асканиев, на свет появилась православная княжна, нареченная Екатериной Алексеевной и на следующий день обрученная с великим князем и наследником российского престола Петром Феодоровичем. Он таковым объявился миру 7 ноября 1742 году, а до того был той же лютеранской веры с не близким русскому уху именем – Карлом Петром Ульрихом фон Шлезвиг-Гольштейном Готторфом, из рода Гольштейн-Готторп-Романовых. Великих царских кровей в нем было с избытком. Его дед по матери – Петр I, российский император, его двоюродный дед по отцу – Карл XII, король Швеции. Юные особы – теперь оба православные, а значит, имеющие право управлять православной державой. Вопрос о замещении престола – один из главных в политике любого государства – занимал тех, кто участвовал в азартной игре большой внешней политики и в игре внутренней, для того чтобы не потерять иногда положение, иногда свободу, иногда и саму жизнь.
О «новом положении»Пятью месяцами ранее
9 февраля 1744 года принцесса София Августа Фредерика вместе с матерью Иоганной Елизаветой прибыли в Москву, где в то время находился русский двор.
«В десятый день по приезде моем в Москву, в субботу, императрица отправилась в Троицкий монастырь. <…> Мне уже дали троих учителей, Симона Тодорского для наставления в греческой вере, Василия Ададурова для русского языка и балетмейстера Ланге для танцев»[13]. Тогда юная София недооценила русские морозы и простудилась, оказавшись между жизнью и смертью, горела от жара и корчилась от боли. В «Записках» Екатерины, ретроспективных и достаточно тенденциозных, осознанно нацеленных на создание собственного образа в истории, о предпочтении веры рассказано как о мудром решении. В один из критичных моментов мать предложила позвать лютеранского священника. Екатерина рисует себя мудрой принцессой, понявшей и принявшей тот факт, что «греческая вера» будет ее основанием жизни (и правления), и потому отклонила предложение матери и повелела позвать православного священника Симона Тодорского.
«…мы с матушкою начали вести более уединенную жизнь, чем прежде. К нам меньше стало ездить гостей, и меня приготовляли к исповеданию веры, 28 июня было назначено для этого обряда, а на другой день, в праздник Святого Петра, должно было последовать мое обручение с великим князем»[14].
Правда, есть и другие сведения. После прибытия в Россию Иоганна Елизавета не была уверена, что ее дочь София решится на такой серьезный шаг перемены веры.
Фридрих уговаривал мать Софии поддержать смену веры: «Il ne me reste madam qu’a vous prier de vaincre la repugnance de votre fille pour la religion Grecque; apres quoi vous aurez coronne votre oeuvre» (Все, что мне остается, мадам, – это попросить вас преодолеть отвращение вашей дочери к греческой религии; после чего Ваша работа будет увенчана короной Вашей дочери)[15].
Тон писем Акселя фон Мардефельда, прусского посланника при русском дворе, становится успокаивающим.
«Смена религии – серьезное решение для Принцессы, она бесконечно страдает и плачет, когда оказывается наедине с людьми, которые не вызывают у нее подозрений. Однако в конце концов амбиции берут верх. Мать еще более восприимчива к этому, и лестная идея сказать со временем: „Императрица“, как и „мой брат“, легко избавляет ее от всех сомнений и служит утешением дочери»[16].
Но уже через несколько недель случилась перемена.
«Когда меня одели, я пошла к исповеди, и, как только настало время идти в церковь, императрица сама зашла за мной; она заказала мне платье, похожее на свое, малиновое с серебром, и мы прошли торжественным шествием в церковь через все покои среди нескончаемой толпы. У входа мне велели стать на колени на подушке. Потом императрица приказала подождать с обрядом, прошла через церковь и направилась к себе, оттуда через четверть часа вернулась, ведя за руку игуменью Новодевичьего монастыря, старуху по крайней мере лет восьмидесяти, со славой подвижницы. Она поставила ее возле меня на место крестной матери, и обряд начался. Говорят, я прочла свое исповедание веры как нельзя лучше, говорила громко и внятно, и произносила очень хорошо и правильно; после того, как это было кончено, я видела, что многие из присутствующих заливались слезами и в числе их была императрица; что меня касается, я стойко выдержала, и, меня за это похвалили. В конце обедни императрица подошла ко мне и повела меня к причастию»[17].
Борьба за невестино место – за «новое положение»Еще месяцами ранее
Кто займет место рядом с будущим императором России, на тот момент великим князем Петром, дело совсем не любовное, не романтическое, а сугубо политическое. Династический брак – новые права, новое влияние, новые союзы или новая вражда. Упустить такой шанс политические партии не могли. За место невесты подле великого князя Петра интриговали две партии, у каждой из которых были свои претендентки, нужного возраста и происхождения, которые в дальнейшем и должны были стать проводниками влияния определенной политической партии.
И хоть чуть-чуть романтики. Одна из практик заочного знакомства будущих супругов – смотрины будущих новобрачных важными персонами и обмен портретами жениха и невесты.
«В это время находился в Гамбурге барон Корф, курляндец на русской службе; он был женат на графине Скавронской; бабушка заказала мой портрет знаменитому Деннеру; генерал Корф велел сделать для себя копию этого портрета и увез ее с собой в Россию. Годом раньше граф Сиверс, тогда камер-юнкер императрицы Елизаветы Петровны, привозил в Берлин андреевскую ленту для Прусского короля; прежде чем передать ленту королю, он показал ее матери, которая так была как-то поутру; он попросил позволения взглянуть на меня, и мать велела мне прийти причесанной наполовину, как была. Вероятно, я стала не так уж дурна, потому Сиверс и Корф казались сравнительно довольны моей внешностью; каждый из них взял мой портрет, и у нас шептали друг другу на ухо, что это по приказанию императрицы. Это мне очень льстило…»[18].
Годом ранее
Фридрих II, зорко следивший за ситуацией в России, которая казалась не очень стабильной – многие не верили, что Елизавета Петровна долго удержится на престоле, грозила опасность со стороны брауншвейгской фамилии, – советовал Елизавете Петровне в августе 1743 года: «…ради собственной безопасности, разлучить членов несчастного семейства, заключить бывшую правительницу, Анну Леопольдовну, в монастырь, отправить бывшего императора, Иоанна Антоновича, в Сибирь, а герцога Антона Ульриха отпустить в Германию. Прусский король в то время хлопотал о женитьбе Петра Феодоровича заявил даже, что успех этого дела должен обуславливаться обстоятельствами строгих мер против брауншвейгского семейства»[19].
«Из всех немецких принцесс, которые по возрасту своему могли вступить в брак, наиболее пригодною для России и для интересов Пруссии была принцесса Цербстская. Отец ее был фельдмаршалом королевских войск; мать, принцесса Голштинская, была сестрою наследного принца Шведского, теткою великого князя Российского. Мы не станем входить в подробности переговоров об этом деле; достаточно будет сказать, что довести их до благополучного исхода стоило немаловажного труда. Самому отцу невесты этот брак не нравился. Не уступая в ревности к лютеранству современникам Лютеровой реформы, он лишь тогда согласился, чтобы его дочь приняла схизматическое исповедание, когда один более сговорчивый пастор растолковал ему, что лютеранская вера и греческая почти одно и тоже. В России Мардефельд так искусно скрыл от канцлера Бестужева пружины, пущенные им в ход, что принцесса Цербстская появилась в Петербурге к изумлению всей Европы, и императрица приняла ее в Москве со всеми знаками расположения и дружбы»[20].
Годом ранее предыдущего
София Августа Федерика очень понравилась родному дяде по материнской линии, принцу Георгу Людвигу Гольштейн-Готторпскому, он был старше принцессы на 10 лет, хорош собою, веселого нрава, вернулся с саксонской службы и поступил в услужение к прусскому королю. Его ухаживание, а затем и признание вполне могли привести к браку, и тогда немецкая принцесса осталась бы в Пруссии. «При первой возможности он возобновил прерванную беседу и стал говорить о своей страсти ко мне, не стесняясь больше. Он был тогда очень красив; глаза у него были чудесные; он знал мой характер, я уже свыклась с ним; он начал мне нравиться, и я его не избегала. Он-таки добился моего согласия выйти за него замуж, под условием, что отец и мать не окажут никакого препятствия. <…> Получив мое согласие, дядя со всей силой отдался своей страсти, не знавшей границ; он ловил мгновенья, чтобы меня поцеловать, он умел их создавать; однако если не считать нескольких объятий, все обошлось очень невинно»[21]. Влюбленный по уши Георг готов был на любые подвиги, чтобы заполучить юную Софию.
Возможно, ее жизнь прошла бы более спокойно, возможно, по-прусски дисциплинированно, возможно, даже более счастливо. И менее велико. Говорят, что история не знает сослагательного наклонения, однако это был возможный расклад. Принц Георг Людвиг женился в 1750 году на другой немецкой принцессе, кстати, тоже Софии – Софии Шарлотте – спустя несколько лет после неудавшегося романа с племянницей.
Судьба сведет Екатерину и Георга Людвига еще раз при совсем неромантических обстоятельствах. По просьбе Петра III Георг Людвиг приедет в Россию 21 марта 1762 года, а уже через три месяца, в момент дворцового переворота, Георг Людвиг откажется изменить присяге и сохранит верность российскому императору, за что будет арестован гвардейцами. Екатерине придется лично вмешаться, чтобы защитить дядю, некогда пылко в нее влюбленного, на правах императрицы всея России от расправы. Вскоре, 30 июля того же 1762 года, он покинет Россию, а через год и этот мир.
Четырьмя годами ранее
Фридрих II в 1740 году после смерти своего отца, Фридриха Вильгельма I, получил в наследство прусский престол, хорошо обученное войско в семьдесят шесть тысяч человек и почти девять миллионов талеров казны[22]. Вполне в духе Дона Карлоса из шиллеровской трагедии, где герой ужасается, что ему 23 года «и ничего не сделано для вечности», Фридрих мог с еще большим пафосом воскликнуть: «Мне уже 28 – и самое время становиться великим!» И он не заставил себя ждать. Фридрих, король небольшой Пруссии, заявил о себе как о новом игроке на политической арене Европы, действуя смело, порой коварно, где-то отчаянно. Как только в Австрии умер Карл Габсбург VI, Фридрих незамедлительно направил свою армию в богатую Силезию и отнял ее у Австрии. Фридрих сделал ставку на брак Петра Феодоровича. Партия, в которой прусский король хотел принять участие. И у него была принцесса нужного возраста и происхождения. Ему было известно, что императрица Елизавета Петровна не думала о браке и не надеялась на прямых наследников. Но так сложилось, что герцог Голштинский, суженный Елизаветы Петровны, скончался от оспы. И теперь Елизавета надеялась на потомков великого князя Петра Феодоровича, коли он назначен наследником российского престола, заключение брака и наследники должны были упрочить российский трон и, возможно, избавить Россию от дворцовых переворотов и битв за престол.

