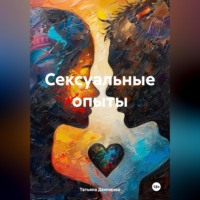Верёвка и Генералов
Потом начались девяностые, развал страны и устоявшейся жизни набирал силу. Поначалу перемены не особенно пугали. Выйти из партии Григорий Иванович не спешил, но, заражённый всеобщей лихорадкой, от корки до корки читал разрешённые теперь «Большой террор» Конквеста, «Сталин: путь к власти» Такера и «ГУЛАГ» Солженицына, бурно обсуждая прочитанное с приятелями и женой. Зияющая чистота магазинных прилавков, длиннющие очереди за самым необходимым, талоны на продовольствие, розыгрыши между членами профсоюза элементарных промтоваров – всё это настораживало, но всё-таки воспринималось как временные, неизбежные при сломе государственной системы, перипетии. И каждый день, выходя во внешний шатающийся мир, Фоминым хотелось поскорее вернуться туда, где запахи и звуки создавали их домашний уют, равновесие и уверенность в том, что скоро всё будет хорошо.
Но время шло, а лучшее будущее никак не наступало. Дух разрушения властно захватывал отношения даже между самыми близкими людьми. В семье Фоминых началось с того, что Григорий Иванович рассорился с отцом, непримиримым врагом перестройки и гласности, и перестал ездить к родителям, которые к тому времени вышли на пенсию и вернулись в родную деревушку – к земле, как говаривал дед Иван. Она, мол, родимая, завсегда, в любые времена, прокормит.
Внешнее оставаясь спокойным, Григорий Иванович сильно переживал в душе. Этот семейный разлад мучил его, но помириться с отцом не давала гордость. Когда с бабушкой Валей случился смертельный удар, дед Иван сыну и невестке об этом не сообщил. Только через полтора года Григорий узнал, что матери нет в живых. После этого он помрачнел, перестал играть с сыном Петей, интересоваться Вериными делами, почти не общался с женой.
На работе стали задерживать зарплату, появилось много нового, непонятного, неприятного. Григорий Иванович никак не мог смириться со сложившимся в пореформенной России, странным для нормального человека, несправедливым, но поразительно легко и быстро принятым всеми положением вещей. Теперь для того, чтобы получить свои честно заработанные, небольшие, и притом на глазах дешевеющие, деньги, нужно было идти с поклоном к бухгалтеру, кассиру, канючить перед ними и унижаться, а после – подобострастно благодарить спиртными напитками за проявленное милосердие. Сделать именно это – выпросить отпускные, чтоб дали не когда-нибудь потом, после возвращения из отпуска, а заранее, как положено, – умоляла его жена. Она хотела вывезти Веру и Петю, который постоянно простужался, на юг, к родителям, и давила на то, что в прошлом году они и так никуда не выезжали, а лето на севере было дождливым.
– Да не могу я, Таня, – сказал он ей при детях, чуть не плача, – понимаешь, не могу. Противно это, тошно!
Татьяна Владимировна продолжала настаивать:
– Ну, прогнись ты один разок! Ну, что тебе стоит?..
– Да кому я должен руки целовать? – Григорий Иванович начал выходить из себя. – Лёшке Пискунову? Перед этим скунсом мне на коленях ползать?.. Да никогда, слышишь, никогда я не буду ползать! Он у нас в роте стукачом был, ж… командирам лизал, и ты хочешь, чтобы я ему теперь полизал?!.– он так вдруг разорался, что Петя, который тогда еще был дошколёнок, забился от страха под журнальный столик.
И всё-таки Григорий Иванович получил в тот раз отпускные, переступил через себя, и жена с детьми отправились отдыхать – самому ему на билеты денег уже не хватило. А следующим летом в Волгоград уже не поехал никто, слишком это стало накладным. Зато Григорий помирился с отцом, и детей отправили в деревню к деду.
Когда в М. начали замораживать стройки и задержка зарплаты перевалила за полгода, Григорий Иванович стал ещё злее. Он не мог спокойно относиться к тому, что начсклада продаёт «налево» материалы и детали от техники, что каменщик Савельич, которого Григорий уличил в краже двух мешков цемента, бессовестно не признаётся в своём преступлении. Было обидно и больно смотреть, как то, что годами создавали и накапливали общими усилиями, с такой стремительностью теперь рушилось и расхищалось. «Воры, хапуги, – мрачно бурчал он, – всё тащат, тащат, как муравьи… только те в одну общую кучу, а эти – в разные стороны, по норам…» Бывшие приятели мгновенно превратились во врагов. С Витькой Волчковым, однокашником, который раньше часто бывал у них в доме, за то, что тот ворованными кирпичами выложил себе гараж, Григорий даже здороваться перестал. Всё чаще приходил он теперь домой «на рогах», напившись на работе «халявного» технического спирта, которого тогда ещё было вдоволь.
Вскоре Григорий Иванович попал под сокращение. Должность его не нужна стала, ведь ничего в городе не строится – только мозолят глаза своими пустыми окнами-дырами незавершённые объекты: школа, гостиница и новая хирургия. Стал он мыкаться туда-сюда по халтурам. Что заработает – то и пропьёт. А Татьяна Владимировна поначалу держалась, духом не падала, сама деньги пыталась заработать. Из госпиталя она ушла, стала с Галиной Боборыкиной, бывшей коллегой, развивать челночный бизнес – тащили с московских рынков большие баулы со шмотками, а в городке у себя перепродавали. У Галины дело бойко пошло, а у Татьяны почему-то плоховато, товар долго лежал – нет, видно, у неё торговой удачи. Плата за место на рынке всё увеличивалась, а прибыли не было. Хотела вернуться в свою «травму», но там уже работала другая медсестра. Пришлось Татьяне Владимировне идти к начальнику госпиталя и умолять его хоть о каком-нибудь месте, ведь, как-никак, столько лет добросовестно проработала. Начальник пошёл навстречу, но смог предложить только второе терапевтическое отделение, где зарплата была почти вдвое меньше. А Григорий Иванович продолжал всё в том же духе, да ещё и руки начал распускать.
Однажды ночью Веру, которой было тогда уже двенадцать лет, разбудил какой-то шум, крики. Вскочив с постели, она устремилась в родительскую комнату и замерла на месте от увиденного. Забившаяся в угол дивана мать плакала. Отец со сжатыми кулаками ходил около неё взад-вперёд. Он был разъярён и выкрикивал ругательства. Вот он подскочил к жене и замахнулся – лицо её исказилось от ужаса.
– Папа! Не надо! – вскрикнула Вера и зарыдала от страха – никогда ещё она не видела отца таким.
Он одернул руку, испуганно обернулся и прикусил собственный кулак. Потом шумно задышал и вылетел вон из комнаты. Вера подбежала к всхлипывающей матери, обняла её, утешая. На следующий день Григорий Иванович ползал перед женой на коленях, клялся, что ничего подобного больше не повторится. Вот только слова своего он уже не держал…
Татьяна Владимировна терпела-терпела, да и опять, втайне от мужа, засобиралась уезжать. Только теперь не к родителям. Мужчина у неё появился, офицер. Михаил был по званию капитаном: молодой, пухлый и серьёзный, в круглых очках на небольшом мясистом носу. Узелок завязался, когда он лежал в её отделении с острым гастритом. Татьяна Владимировна сначала отшучивалась: мол, в сыновья годишься, но в конце концов уступила его настойчивости – устала она от беспросветной своей жизни. Один раз во время дневного отдыха больных они рядышком, в обнимку, сидели на кушетке в процедурной. Неожиданно вошла Вера, которая забыла дома свой ключ. При появлении дочери, Татьяна Владимировна вскочила и, бросившись к столу, начала суетливо, дрожащими руками складывать коробки с лекарствами, чувствуя, как от стыда щёки наливаются кровью…
Потом Михаил выписался, но продолжал звонить и наведываться на ночные дежурства Татьяны Владимировны. Встречались они иногда ещё и в квартире одинокой Галины Боборыкиной, а так как Вера дружила с её дочерью, то скоро обо всём узнала. Но Татьяна Владимировна уже не стеснялась и не скрывала своей связи. Михаил даже один раз приходил к ним домой, когда Григорий Иванович пропадал на стройке торгового павильона для одного коммерсанта, который потом обманул его, заплатив только четверть обещанного. Татьяна Владимировна накрыла в большой комнате стол, кормила гостя обедом и поила чаем с домашним печеньем. Вера и Петя сидели тут же и слушали, как Михаил со знанием дела разглагольствует о том, что армия в нынешнее время в «полном дерьме».
– У меня скоро контракт закончится – и гудбай, май лав! А кто за просто так служить будет? – рассуждал он писклявым немужским голосом. – Только тот, кто больше ничего делать не умеет или не хочет… К тому же, испытаний стало совсем мало – денег нет, техника стареет, становится опасной. За каким чёртом гробить тут свою жизнь?.. Поеду лучше в Москву. Вон одноклассники какие деньги заколачивают! А я чем хуже?..
Когда он ушёл, Вера спросила мать:
– Ты что, с этим бежать собралась?
– Почему это бежать? – разозлилась Татьяна Владимировна. – Разведусь с твоим папашей-алкашом и уеду. Ты, если не хочешь, оставайся, а Петюню я заберу…
Но Михаил Татьяну Владимировну в Москву с собой не взял – зачем ему с таким «прицепом»? А Григорий Иванович к тому времени стал пропадать из дома: дня на три, а то и на неделю застрянет в каком-нибудь притоне. Татьяна Владимировна его разыскивала, домой приводила, отвадить от пьяных компаний пыталась:
– Ну зачем тебе куда-то идти? Пей лучше дома… Хочешь, я с тобой выпью?..
И отвадила. Теперь они убегали от реальности вместе.
Глава 3. Матюга
– Да куда же он подевался? – Вера вытрясла на скамейку у подъезда всё содержимое своей школьной сумки, но ключа от дома среди тетрадок, ручек, скрученных шпаргалок и других нужных мелочей не было. В карманах, обследованных уже неоднократно, он тоже не обнаруживался.
– Что потеряла?..
Вера вздрогнула от неожиданности. Вопрос исходил от обладательницы ненатурально яркого рыжего каре.
– Ключ от дома, – буркнула Вера, продолжая рыться в вещах.
– Хочешь, пойдем ко мне, пока твои родители на работе. Я живу в соседнем подъезде.
– Правда? – Вера снова, уже внимательнее, взглянула на девчонку, которую видела, как ей показалось, впервые. – Я что-то тебя не припомню…
– Как? Ты что? Мы же с тобой на одной параллели учимся… А-а-а, да я же постриглась и покрасилась, вот ты меня и не узнаёшь. Помнишь, с четвёртой школой играли финал в прошлом году, я с вами в команде была?
Точно. Баскетбол. И эта позорно продутая игра.
– Матюгина? – возникла у Веры в голове странная и смешная фамилия.
Девочка помотала головой, усмехаясь.
– Это ваша Ступа меня так называет, а вообще-то я Матюшкина, еще лучше Маша… Так ты идёшь ко мне в гости? Приглашаю…
Вера представила, как скривится Галка Проступина, если узнает, с кем якшается её подруга. «С этой лузершей?..» – взвизгнет и выпучит свои небольшие, с лисьим разрезом, светло-карие глаза.
– Нет, спасибо, – сказала Вера, – я лучше к маме на работу пойду за ключом… надеюсь, она меня не убьёт – второй уже за месяц теряю.
– Да подожди ты паниковать, может, найдётся ещё. Завтра у вахтерши спросишь, я свои ключи так нашла… Слушай, а ты любишь вареники с картошкой? Мы вчера налепили целую морозилку. Эти школьные обеды такие жидкие, что я слона готова съесть. А ты?
В животе у Веры аж засосало от этих слов.
– Ладно, пошли.
Пока соседка жарила лук, помешивала в кастрюле вареники и щебетала что-то про школу, Вера вспомнила, какой злой была Ступа, когда они проиграли финал. Раскрасневшаяся от только что законченной игры, а еще больше от негодования, Галка долго не могла успокоиться:
– Все из-за этой чмошницы! Легче зайца научить курить, чем Матюгу в баскетбол играть. И зачем только этот старый золотозубый дурак подсунул нам её в команду? – разорялась подруга, имея в виду Филиппа Ивановича, их учителя физкультуры, майора на пенсии, которому за золотые коронки на верхних зубах, от клыка до клыка, школьники дали прозвище Злато.
После той игры, встретив Машу в школьном коридоре или в столовой, Ступа не упускала случая поддеть её или просто хлёстко обозвать. Матюга, как специально, была отличной мишенью для её издевок. Одевалась она странно, не модно: в вязаные платья, плащи и пальто – как какая-то тётенька, а не девочка-подросток. И еще у нее был несуразно крупный нос – Ступа потешалась над ним, как говорится, от души…
– Филипп Иванович говорит: «Пойдешь играть за школу» А я ему: «Может, не стоит? Я баскетбол не очень люблю. Вот волейбол или пионербол…» А он: «Ну мало ли, кто что любит, Мария. Сам погибай, а товарищей выручай. Основной игрок заболел – надо заменить» Вот я и заменила…
Вера не сразу поняла, про что рассказывает Маша.
– Ты про проигранный финал?
– Ну да… Ты думаешь, что мы проиграли из-за меня?
– А из-за кого же? – усмехнулась Вера.
– Не знаю. Думаю, все недожали. Просто Гале надо было выпустить пар и найти козла отпущения, вот она и нашла – меня, нового человека в команде. А на самом деле я играла на максимуме своих возможностей.
Вера вдруг заметила, какая интересная у Маши речь – правильная что ли, почти без жаргона.
– А тебе обидно, когда Ступа… ну…
– Смеется над моим носом?
Вера кивнула.
– Обидно, конечно. Хотя я понимаю, что он у меня из серии «на пятерых рос – мне одной достался», – улыбнулась Маша и немного помолчала.
– Мама мне рассказывала, что, когда была беременная, просила у Бога, чтобы дал ребёнку чёрные брови и густые ресницы. Они у меня такие и получились. Вот только носик аккуратный мама забыла для меня попросить, – хихикнула Маша, и обе девушки весело засмеялись.
– А когда меня называют чмориной, – сказала Маша, продолжая хохотать, – я думаю о том, что ЧМО – это человек меняющий общество. И мне вообще не обидно.
Веру поразила эта её способность иронизировать над собой, чуть сощуривая удлинённые серые глаза в пушистых чёрных ресницах – такие красивые, что, глядя в них, большого носа можно было и не заметить.
Горячие вареники лежали на тарелках, покрытые пахучим поджаренным луком. Еще по ложке сметаны – и можно было уплетать за обе щеки. Что девчонки и сделали, за минуту сметя довольно внушительные порции.
– Вкуснятина, – похвалила угощение Вера, дожевывая последний вареник более тщательно, чем все предыдущие, словно пытаясь продлить удовольствие от еды.
– Да, это мы вчера всей семьей лепили.
– Всей семьей?
– Ага. Когда папка на выходных не в наряде, мы обычно или вареники лепим, или пельмени, или хворост печём. А недавно орешки со сгущенкой делали, правда, их уже не осталось – уплели за милую душу.
Слово «папка» выходило у Маши совсем не грубо, а наоборот ласково. Было понятно, что в это короткое слово она бережно вкладывает свою огромную любовь к отцу.
– Здорово, сто лет орешки не ела, – задумчиво сказала Вера и, сама от себя не ожидая, почувствовала что-то вроде зависти к своей соседке. – Моя мама когда-то тоже пекла… очень давно, в детстве…
– Обязательно позову тебя, когда опять сделаем, – подмигнула ей Маша.
Вера представила насмешки Ступы («Ты что, Веревка, нашла себе новую подружку?») и поежилась.
– А с кем ты общаешься? Есть друзья? – не желая того (или может быть наоборот, желая), Вера надавила на больную мозоль.
Маша пожала плечами.
– Мы раньше в Петербурге жили, точнее под Петербургом. А в прошлом году папку отправили сюда служить, на аэродром. Он у меня лётчик, – Вера услышала гордость в её голосе. – Мы всё бросили там, и поехали за ним. Так что я пока не успела подругами обзавестись. В школе с одноклассницами общаемся, конечно. А так у меня мама – самая лучшая подружка. Мы с ней обо всём можем поговорить… А ещё у меня ведь брат есть, Андрейка, на год младше. С ним мы тоже очень дружны. Он сейчас на секции по рукопашному бою, но скоро придёт, и я тебя с ним познакомлю.
– Мне идти пора, – сказала Вера.
– Ну подожди, куда ты торопишься… А хочешь, я тебе на гитаре Цоя поиграю, а? Я могу целый день с гитарой просидеть.
Маша сбегала в детскую и принесла красивую гитару, покрытую глянцевым лаком. Играла она довольно хорошо и пела тоже неплохо. Вера похвалила:
– Здорово получается. А я раньше на скрипку ходила, но потом бросила.
Вера не стала рассказывать Маше, как однажды встретилась со Ступой по дороге в музыкалку, и та заставила ее достать скрипку из футляра прямо на улице. Пришлось Вере на потеху своей подруге водить смычком по струнам, и петь, как в фильме «Кин дза дза»: «Мама! Мама! Что я буду делать?», приседая в конце, коленки в разные стороны, со звуком «Ку».
– Жалко, что бросила, – сказала Маша. – Сколотили бы с тобой дуэт. Я, кстати, готовлю свой сольный концерт в вечерней школе.
Вера уставилась на соседку во все глаза: «Вот это она о себе возомнила?!»
– Дело в том, что мне очень нравится один парень… Да что там нравится – я втюрилась в него по уши. Он в вечерке учится – Альберт Шумский, знаешь?
«Еще бы, кто ж его не знает. Ничего себе замашки у этой Матюги», – с удивлением подумала Вера.
– Я уже даже хотела с ним поговорить, признаться. Сил нет в себе это держать. Как говорится, пан или пропал. Тем более, что мы скоро уедем – папку переводят назад, в авиаполк, на повышение. Вот если бы мне удалось завязать с Альбертом отношения, я бы уговорила его поступать после школы учиться именно в Петербург. И тогда бы мы могли быть вместе…
Маша закатила свои красивые глаза:
– Ах мечты, мечты, как же вы сладки… Но знаешь, Вера, если я что задумала – то держите меня семеро, – она опять засмеялась и заразила своим смехом Веру.
Когда они успокоились, Маша сказала:
– Это моей бабушки выражение, про «держите меня семеро». Веселая она у нас была, еврейка. В общем, я готова на всё, даже выйти на городскую площадь с транспарантом «Альберт Шумский – любовь всей моей жизни». Но мама сказала, что так не годится. Она считает, что нужно как-то по-другому привлечь его внимание. Надо заинтересовать человека своей индивидуальностью! Вот я и постригла волосы, а потом еще и покрасила в этот жуткий рыжий цвет, который мне не идет, – снова хохотнула Маша. – Думала, он увидит меня на дискотеке и …
– А ты на дискотеки ходишь? – удивилась Вера. – Я тебя там не замечала.
– Вот и он не заметил, – вздохнула Маша. – В общем, я думала, думала, как же мне завладеть его вниманием, и придумала этот концерт. Мама сказала, может сработать. Я уже даже афишу нарисовала, смотри.
Вера рассматривала нарисованную на ватмане гитару с чёрным силуэтом Цоя и думала о том, что её соседка Маша Матюшкина, конечно, девочка не от мира сего, белая ворона, которой, наверное, тяжело будет найти свою компанию. Но зато у неё есть другое, может быть, даже более важное. Это дружная, любящая, настоящая семья, благодаря которой она выглядит вполне счастливым человеком.
– Вера, а у тебя есть любовь? – прозвучал неожиданный вопрос.
– Нет, – последовал торопливый ответ.
– А нравится кто-нибудь?..
Вера вдруг подумала про новенького Зину, который, пожалуй, был ей интересен, но поспешила прогнать подальше эту мысль, понимая, что её подруга Ступа никогда не одобрит такой выбор. Генералов для неё был «тупым переростком», «резиной», «ботаном», «чмошником» или еще чем похуже. В общем, насмешек не оберёшься…
Глава 4. Зиновий
Учёба давалась Зиновию без особого труда. Он вполне мог бы иметь «отлично» по всем предметам, но постоянные переезды с отцом-офицером из гарнизона в гарнизон не располагали к стабильности в отметках. Самостоятельному же постижению наук по учебникам жизнелюбивой натуре Зины мешала ленца, неусидчивость и тяга к эмпирическому познанию окружающего мира.
Семье Генераловых пришлось немало поколесить по свету: Белоруссия, Камчатка, юг России, центр, Сибирь, теперь вот европейская часть севера. И нигде Георгий Степанович, Зинин отец, не упускал возможности обойти пешком, с рюкзаком за плечами, окрестности, разведать места для охоты и рыбалки, проложить туристические маршруты, по которым он потом водил свою семью и знакомых. С раннего детства Зина был приобщён к трудностям и удовольствиям походной жизни, ко всем премудростям рыбной ловли и сплава по горной реке. Он с лёгкостью ориентировался в лесу, разбирался в голосах птиц, в звериных следах и охотничьих породах собак. Однако сам охотиться не любил. Рыбу удил, но потом жалел её и отпускал обратно в воду. Зимой же ходил на рыбалку с особой целью: насверлить побольше лунок, чтобы под толстым льдом озёрная рыба не задохнулась. Всякие зверушки, пташки, рептилии, насекомые, обитатели подводного мира чрезвычайно привлекали его внимание. Ещё будучи совсем малышом, он пугал в детском садике девчонок и воспитательниц мышами, которых таскал за пазухой. Как-то во втором классе Зина принёс в школу лягушонка, а строгая учительница отобрала его и выкинула из окна с четвёртого этажа. Зина долго по нему убивался, даже в школу ходить отказывался. Этот трагический случай научил его быть более ответственным по отношению к живым существам.
Взрослея, Зина продолжал водить дружбу с животным, так как близко сходиться со сверстниками он обычно не успевал. Хорошо, что в доме всегда были собаки. У одной из них, белой дворняжки Метки, на морде красовалось круглое коричневое пятнышко, за что она и получила свою кличку. Однажды Метка попала под колесо легковой машины, ей отрезало заднюю лапу. Несколько минут она надрывно кричала на весь двор, а потом затихла. Игравшие во дворе дети подбежали к ней, но никто из них не решался дотронуться до истекавшей кровью собаки. Зина дома услышал крики своей Метки и выскочил на улицу. Ему тогда было одиннадцать лет. Увидев Метку умирающей, он сначала растерялся, заплакал, но потом взял себя в руки.
– Перенесите её на скамейку… И лапу не забудьте! – приказал он детям, послал одного из мальчишек звонить ветеринару, а сам побежал домой.
Родителей не было. Как назло, и соседей тоже – все на работе. Дрожащими руками Зина выгреб из аптечки всё, что смог там найти: бинты, спирт, перекись водорода, пузырёк с йодом. Сам ещё не веря в то, что собирается сделать, взял в игольнице несколько игл разной величины, прочные капроновые нитки, ножницы и, прихватив из шкафа простыню и полотенце, бросился к Метке, которую густо обступила ребятня. Многие плакали. Зина переложил собаку на простыню – она чуть слышно поскуливала. Из её густой крови на земле образовалась лужица. Мальчишка, посланный за доктором, не возвращался.
– Уходите все, – наконец не выдержал Зина, – Сядьте вон на ту скамейку и ждите.
Дети повиновались, а Зина принялся за дело. Промыл рану, выбрал иглу, протер её, свои руки и нить спиртом, стиснул зубы – и начал операцию. Остриг шерсть, зажал артерию, соединил разорванную кожу. Обессиленная собака молчала. Зина очень боялся, что он сделает что-нибудь не так и Метка умрёт, глаза его жгли слёзы, но он не останавливался. Закончив, перемотал то, что осталось от лапы, бинтом, завернул собаку в полотенце и бережно отнёс домой. Когда вышел после этого во двор, дети снова обступили «операционный стол» и с ужасом глядели на окровавленную простыню и на иглу. Зина собрал всё и на немой ребячий вопрос со вздохом, беспомощно пожав плечами, сказал: «Может, выживет». Метка действительно выжила и ковыляла с тех пор на трёх ногах. А умерла она через несколько лет, от старости.
Вслед за Меткой заболела раком и угасла мать Зины, Людмила Алексеевна. Это была женщина интеллигентная, кроткая, никогда не позволявшая себе даже повышать голос. По образованию историк, Людмила Алексеевна долгое время не работала, полностью посвятив себя воспитанию сына. Она любила книги, собирала их, выписывала собрания сочинений и оставила после себя добротную библиотеку в триста томов. Эта библиотека, которую Георгий Степанович и Зина привезли с собой в М., была их единственным богатством. А реликвией – чёрно-белая фотография в медной рамочке, на которой Людмиле Алексеевне было не больше двадцати лет. Гладкие волосы, убранные назад, чуть приплюснутый нос, полураскрытые поблёскивающие губы и мягкие, светлые, ласковые глаза. Зина часто смотрел на эту фотографию, но никак не мог представить мать такой. Болезнь сделала из неё старуху, и этот жалкий, разрывающий сердце последний образ отпечатался у него в мозгу, затмив все другие. С течением времени он не ослабел, но, к счастью, начал постепенно опускаться на глубину его сознания, уступая место другим воспоминаниям о матери.
В детстве Зина был трусоват. Чуть что случалось во дворе, он бежал домой, крича во всё горло: «Мама! Мама, помоги!» Людмила Алексеевна, оставив домашние дела, сажала возбуждённого сына к себе на колени, гладила пухлой ладошкой по взмокшей его голове и терпеливо объясняла, что трусость – это стыдно и недостойно мужчины, и что он, её сын, непременно обязан побороть страх. Потом она ставила его перед собой, внимательно смотрела в глаза и спрашивала:
– Ты понял, Зиновий Генералов?
– Понял, – кивал Зина и шёл обратно во двор, самостоятельно разбираться со своими «врагами».
Каждый раз, стоя перед дверью нового класса, Зина повторял мысленно слова матери, чтобы увереннее сделать первый шаг на чужую территорию и снова начать борьбу за уважение к себе. Целых восемь школ! Это не шутки. А сколько шишек и синяков было за это время – никто не считал. От старожилов очередной новой школы Зина не ожидал тёплого приёма, но на этот раз драться ни с кем не пришлось.