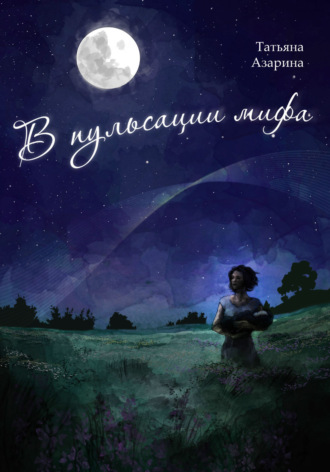
В пульсации мифа
Мужчина на цветном снимке отличался ярко выраженным осознанием своего достоинства – просто убеждал с фотографии своей значимостью. Про таких в народе обычно говорили: «Начальник»! Рост – не богатырский, но выше среднего, выглядел стройным, подтянутым. Бросалось в глаза крепкое – прочное – телосложение. Впечатление производил среднего во всём, правда, в хорошем значении этого слова: не рыхлым, не пастозным – нормальным.
Массивный комод в детстве мне казался о-о-очень высоким, и от пола мне, маленькой, эту фотографию не было видно. Но, подставив стул, создавала себе условия разглядывать её столько, сколько душе угодно. Оставаясь одна, я так и делала: подолгу изучала его лицо. И детский разум подсказывал мне: командир.
Однако, задерживаясь на снимке взглядом, я уделяла больше внимания георгинам, чем облику этого строгого на вид человека, воспринимая портрет как отдалённую – на фоне остальных, в плане всех моих связей и предпочтений, – примету бабушкиного быта. Сплелось для меня воедино манящее цветочное царство, всегда умевшее заворожить, и серьёзное лицо мужчины, уверенного в себе, не знающего ни обид, ни поражений в своей жизни. Вот такая печать осталась на нём в моём детском представлении: живёт в рамке человек, всё у него хорошо, георгины рассыпаны вокруг по пояс, и это – мой дедушка. Но таким же моим мог быть и собор на вышивке – лишь благодаря игре с образом, без всякого прикосновения.
Встреча
В двенадцать лет, поехав в Усолье к своему дяде Володе, я странным образом попала в гости к этому дедушке. Я тогда не знала, что свидание наше будет единственным, и чем больше лет отдалит меня от него, тем невероятнее окажется всё, что я пережила тогда. Каждая деталь развернулась своей декоративной стороной, остро дав мне почувствовать роль посторонней в этом доме-музее. Ещё один мифологический штрих: роскошь и сказочные декорации встречи, при этом вселенски преувеличенное отчуждение, тоже мифологическое, если прислушаться к себе.
Ах, мой дядя Володя – неисправимый романтик шестидесятых… Он всеми силами изобретал возможность свидания: раздобыл адрес, узнал маршрут автобуса, идущего в дачную зону на Ангаре.
– Как ты его разыскал?! – изумлялась я, ни разу не слышавшая раньше подробностей о родном дедушке. Память снова услужливо высветила мне цветную «открытку» на бабушкином комоде, но только и всего.
– Да уж поверь – не иголка он в стогу сена. Дед твой большой начальник здесь, в Усолье.
Володя грезил картиной внезапного визита, который осчастливит сразу двоих, заодно и его, совсем не постороннего в моей судьбе. И, конечно же, с жаром убеждал меня в необходимости отправиться «в поисках радости». И убедил. Так, при его участии, состоялось наше «узнавание». Только мой дядя не учёл пушкинского предостережения о женской злобе и мужской бесхребетности, идеально подходящих друг другу в отдельных парах. А может, всё это «рюшечки» – и на деле ситуация проступила гораздо примитивнее: безразличный к сюрпризам человек не ждал ничего подобного и пережил некоторый дискомфорт. И что ему ответственность за «семь поколений», когда такая блажь вокруг и лето – в цветущей садовой фееричности – буквально требуют послеобеденного сна? Похоже, и возраст ему мудрости не прибавил. Так и остался он в скорлупе самодовольного существования в границах, очерченных своим разросшимся «эго» при растущем для него изобилии.
И всё-таки был там – и не один – пушкинский штрих, поразивший меня до крайнего изумления: его жена была похожа… на Бабу-ягу. Я представила мысленно в этой светской обстановке внешность своей бабушки Маши: её мягкие черты лица, улыбающиеся синие глаза, неизменно гладкую кожу всегда молодых её щёк – и осталась довольна вариацией. Её желание дружить, которое открывалось при первом же взгляде на неё («Арсентьевна», «тётя Маша»), выгодно отличало от соперницы в столь роскошном интерьере. Контрасты – невероятные. Конечно, у моей бабушки был дерзкий нрав, и проявлялся он моментально – стоило нарушить границу возможного для неё: обид она прощать не умела, но… не обижайте! Не нарушайте её границ. К тому же набор «шумных» качеств никак не отменял её сострадания в детских вопросах. Здесь же, однако, при всей гладкости и лоске антуража, всё произошло самым бесцветным образом. Мне бы пожалеть себя, но я не умела этого делать. Бабуягу внутренне я, конечно, мужественно проигнорировала, и всё же с первой минуты встречи с этим человеком в душе вспыхнула оглушительная ясность: они очень похожи – своей отчуждённостью по отношению ко мне. Различие было лишь в том, что её откровенный холод дедушка смягчил светской любезностью – впрочем, весьма отстранённой, потому как не осталось в памяти тепла. Потревоженные вторжением незваных гостей «из-за забора», эти люди ограничились формальным приветствием. Как только это мне открылось, я с острой, до болезненности, нежностью подумала о маме и бабушке – мне стало их бесконечно жаль. Как хорошо, что в ту минуту, когда всё стало прозрачно-понятным в этой сближающей их бесчувственности, я даже не подозревала, что у меня есть естественное право быть его любимой внучкой! Я привыкла к сиротству. Закалилась. И приняла удар, не дрогнув. А ведь уверена: случись подобное прочитать в какой-нибудь сказке, пролила немало бы слёз над отвергнутой сиротой: «жалость» и «жало» для меня не просто однокоренные слова – и по звучанию, и по сути одноприродные: прожигающая душу боль.
Деревянный массивный дом дедушки оказался поразительно похожим на терем из детских книжек Пушкина. С высоким ровным забором, узорными ставнями, резьбой над окнами. Он был двухэтажным и впечатляюще возвышался даже при высоте забора.
Красивые, с затеей, ворота давали возможность угадать, какую прелесть можно увидеть за ними. И «просто так» к хозяевам не войдешь – понадобится их разрешение. На воротах – кнопочка, звонок. Всё это охлаждало пыл встречи. Меня одолела робость: я в такие дворы никогда ещё не входила. Но Володя был настроен легко. Он позвонил, улыбкой и озорным взглядом подбадривая меня.
И вот тогда показалась эта старушенция с рябым некрасивым лицом. Больше всего её внешность портил даже не крючковатый нос, каким обычно наделяли классические авторы злодеев, а возмущённое выражение маленьких буравящих нас глазок. Неожиданность для меня была тем поразительнее, что она оказалась женой моего дедушки – того самого дедушки, представление о котором так идеально очертило цветочное пространство фотографии. И к тому же мне было, с кем сравнивать, стоило вспомнить облик своей бабушки: да не злодейка, уж точно.
Наверное, неприятно её внукам смотреть на такую внешность, успела я подумать, прежде чем она решила, что с нами делать, выражая всем своим видом недовольство от нашего появления.
Услышав от Володи, что мы прибыли к Дмитрию Яковлевичу, хозяйка сдержанно прореагировала, на ходу гася в себе великую досаду, и повела нас по тропинке среди медово-ароматных пышных клумб направо от дома, во флигель.
Но ведь могла и вовсе отказать нам в этой встрече, – оправдала я её мысленно в своём желании всё и всех примирить в то чудесное мгновение.
Внутри лёгкого строения я увидела светлую мебель, диваны в белых чехлах по обе стороны от длинного стола, красивую посуду за стеклом, на полу – ковровые дорожки. Мы присели, не сговариваясь, на краешек ближе к нам стоящего дивана и затихли в ожидании хозяина. За нашими спинами осталась входная дверь и притаилось столь же интригующее царство зала с необычной для летней кухни обстановкой и комнатными цветами (вот бы всё с наслаждением рассмотреть!). Но я не позволила себе оглянуться: даже в нашей узкой каморке мне всегда претило разнузданное любопытство посторонних. Хотелось соответствовать своей же планке представления о достоинстве, внушённом к тому же его образом с фотографии.
Наконец он появился (понимал ли, насколько сильным был этот момент в моей жизни?) – большой, полный, с одутловатым, раскрасневшимся от жары лицом, в полосатой пижаме и в соломенной шляпе. Курточка на нём была не застёгнута, и белоснежная майка дополнила впечатление привычной ухоженности и барства в замашках.
– Здравствуйте! – произнёс он весело, без всякой насторожённости, с откровенным недоумением в глазах. Я, скованная осознанием момента, тихо поздоровалась в ответ.
Володя засуетился, почтительно встал перед ним во весь свой богатырский рост, молодой, красивый, с пышной шевелюрой, подал руку встречным жестом и с улыбкой склонился над ним в приветствии:
– Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич! Я сын Марии Арсеньевны, Владимир.
Я всегда любовалась Володей в детстве и на этот раз с гордостью пронаблюдала нарастание любопытства во взгляде принимавшего нас хозяина.
– Вот Вам внучку привёз! Познакомьтесь: дочь Вашей Лиды.
– А-а-а… Вот оно что!
Дмитрий Яковлевич с размаху плюхнулся на диван, стоящий напротив, привычно откинулся на спинку. Глаза его не смогли скрыть, насколько это всё было неожиданно. Тут же он взглянул на меня более пристально, с понятным интересом – наши глаза встретились. Действительно, передо мной оказался человек, наделивший маму своим круглым лицом с мелкими чертами и глазами, типичными для забайкальцев, как я уже к тому времени успела усвоить, и это потрясало при живой встрече больше, чем в моём далеком детстве – при виде фотографии.
– А как зовут тебя?
– Таня.
– И сколько тебе лет?
– Двенадцать…
И далее – по анкетным пунктам… Володя в сильном волнении вставил реплику про мою хорошую учёбу.
– Молодец! – тут же последовало одобрение моего ума. Или способностей.
Но здесь как раз можно было ставить точку и прощаться, потому что остальные вопросы и ответы были уже недостойно пространными для состоявшегося события на линии нашей общей судьбы. А как там Маша? Что за жизнь на Дальнем Востоке? А у нас тут такая жара! Вы тоже страдаете? Так Вы тоже – из Усолья? Как послали туда по линии партии, с тех пор там и живу…
Меня из разговора, к моему облегчению, изъяли, и я, уже с разжатой пружиной напряжения от скованности внутри с самого утра, наконец успокоилась – в ожидании гостеприимного застолья поглядывала на сияющий самовар, который эффектно венчал композицию из расписного чайного сервиза на отдельном круглом столике с витыми ножками, стоящем поодаль.
Два раза появлялась эта бабушка, испугавшая меня внешним видом. Сердито (на всю громкость) переставляла какие-то предметы за моей спиной, так ничего и не поняв, что за люди приехали и нарушили покой – или даже комфорт – их загородного существования. Впрочем, имя Маша, которое несколько раз произнёс хозяин, могло и подсказать ей, кто прибыл.
– Может, чайку выпьете? – вдруг прозвучал вопрос, и в нём вполне явственно проскользнула подсказка, что это наверняка будет… излишеством. Володя оказался на удивление понятливым. Он тут же «проснулся», спохватился и, поднимаясь с места, учтиво произнес:
– Что Вы, не стоит! Нам уже пора идти.
Прощание, как и приветствие, сопровождалось благородным рукопожатием по инициативе моего дедушки. Взаимным оказалось пожелание: «Всего хорошего» – и напоследок мы с Володей услышали:
– Спасибо, что заехали. Был рад познакомиться.
Это был уже рискованный шаг в лицемерной дипломатии – все шаблоны побледнели и рухнули перед таким натиском фальши.
«Заехали»!!! Ах, дедушка! Ах, говорун…
И вот мы уже за воротами. Всё произошло быстро, как во сне. Дольше ехали!!!
Когда спасение – в запрете на крик души
Володя был полностью деморализован и ничего не мог сказать мне в утешение – он сам в нём нуждался. И мне было его жалко: что бы я только ни сделала – лишь бы порадовать его. Но порадовать собой – это одно, а выдержать холодный, формальный приём, ход которого я не в силах выправить к удовольствию для Володи, – это уже другое. О себе я не думала. В этом и состояло моё счастье.
Ангара змеилась на солнце, сверкала алмазами, звёздами, искрами в стремительном шумном течении рядом, буквально в шаге от сказочного дедушкиного терема. Чтобы спасти ситуацию и не дать Володе возможности извиняться передо мной за его настойчивую агитацию встретиться, я предложила:
– А пошли купаться, Володя?
– Да ты что?! Ангара – ледяная!
– И летом?
– Конечно!
И Володя ухватился за предложенную нить Ариадны. Я знала, как он обожал обсуждать сибирскую тему, и облегчённо вздохнула: спасение найдено.
– Здесь такой ельник – пойдём, у нас есть время до электрички. Я тебе покажу настоящие сибирские ели.
Я наблюдала, как он делал усилие над собой, чтобы оставаться беспечным, интересным для меня собеседником, знающим многое о здешних местах, и изо всех сил активно отзывалась вопросами, требующими развёрнутых ответов.
Чтобы разговор не повисал беспомощно в пустоте – из-за моей внезапной потери всякого интереса к миру Ангары, Сибири, да и ко всему на свете…
Я помогала ему всеми силами – душевными и физическими, крепко держа его за локоть, как помогают друг другу путники, идя по скользкой тропе вдоль пропасти. «Так вот оно что, – упрямо теснились в моей голове мысли про одно и то же и никак не хотели покидать меня, накрытую внезапной волной нечаянного узнавания абсолютно родного по крови человека, – вот так мы и жили всё это время… Совсем не думая друг о друге». Он – в эйфории забвения среди роскоши, которую, верю, заслужил, но которая нисколько его не оправдывает перед отцовским долгом, теперь уже и дедовским. И мама – в безуспешной попытке обмануть нищету и как-то «выбиться в люди», зарабатывая деньги всеми способами, известными ей: шитьё, побелка чужих стен, выход на работу вместо заболевших и в праздничные дни. Бабушка – в ежедневной схватке с трудностями на железной дороге в жару и в мороз. А я – в круге, очерченном родными лицами и луганскими письмами, в любви без границ ко всему родному, к чему была причастна, и в счастливом неведении, насколько же я не нужна, а потому и безразлична этому человеку – бабушкиному когда-то мужу, маминому по документам отцу, моему по природной инерции деду.
Шрамы памяти – в наследство
Сирота так и не становится по-настоящему взрослым.
Жан-Луи БарроИз всё той же жалости к маме не рассказала я дома правды, тем самым допустила худшее. Естественно, я предпочла бы вообще на эту тему не заводить разговора, но оказалось, что Володя сначала обсудил возможность нашей поездки к деду Дмитрию с мамой. И она ждала с накалённым любопытством эту новость от меня.
– Мама, он так мне был рад!
– Правда?! А обо мне спросил?
– Да мы только о тебе и говорили!
Какие-то подробности из моих фантазий сами собой материализовались в беседе с мамой, желавшей всё это слушать и слушать… После чаши горечи, выпитой до дна при встрече, я буквально высекала искры розового счастья для мамы, я творила для неё обезболивающее из воздуха. Я поступила, как фокусник, желающий всем на свете очарованности жизнью. Наивный ребёнок, я увлеклась шаманством, не понимая, что играю с огнём. Но не пустым было моё забытьё: я сама нуждалась в наркозе.
Мама, действительно очарованная рассказанным, поехала с большими надеждами на встречу с ним. В итоге – удар, непоправимый, травма на всю жизнь. Он вообще не ответил ей после её первого телефонного звонка, хотя пообещал встретиться. Как это было на него похоже – я уже узнавала его, родного…
На второй звонок – после того, как он не пришёл в назначенный час к Володе, – ответила его жена: «Его нет дома. Хорошо, передам, как придёт». Как это было на них похоже – я уже узнавала эту пару чужеродных, картонных особей. Грустный для детства опыт – не пожелала бы своим детям его пережить, не пожелала бы никому вообще. Никогда.
Меня потрясла одна деталь в связи с услышанным о дедушке: он назвал и вторую дочь тем же именем, Лидой, – чем не индийский росчерк в эгоистической попытке вернуть потерю? А может, наоборот, заигрался…
Другую Лиду, свою, Дмитрий Яковлевич потерял при страшных обстоятельствах: она погибла в аварии.
Когда он умер, в середине семидесятых, в городской газете Усолья Сибирского вышла традиционная для такой ситуации колонка, посвящённая ему, – официальный некролог. Володя прислал вырезку в письме. И только попав в Тольятти и став ближе к техническому миру, я оценила масштаб своего деда: он был директором городского автотранспортного предприятия.
Как-то мама вспоминала его, и я позволила вслух пофантазировать на тему, как сложилась бы её жизнь – окажись она в его семье, о том, какой могла быть судьба её: образование, ухоженность, окружение роскошью, отцовским вниманием, родительской заботой… Она обиделась, шокируя меня своим выпадом:
– И что тебе моя необразованность покоя не даёт?!
– Так ты же сама всегда жалела, что отчим не дал тебе в школе учиться! Вспомни, как ты меня убеждала: училась все годы хорошо, а стоило придумать вариант с ФЗО, как он тут же и отреагировал с одобрением. Да ещё и год приписал, потому что закон щадил детей, охранял их права, не допуская раньше времени к выходу на работу. Даже в войну. Ты же сама подчеркивала, что безропотно повиновалась – боялась его гнева, его побоев?!
Но вся гроздь аргументов вдруг оказалась тщетной. Эх, мама… Привычным, вне всякой логики образом свернула с этой темы в какие-то одной ей понятные дебри.
– Думаешь, я не знаю, как ты всегда стеснялась моей необразованности?
– Но не настолько, чтобы это било по тебе. Война многое объясняет – ты не одна осталась без образования. Ты же сама создала это моё отношение к твоей участи своим непрощением. Я только и слышала, что отчим не дал тебе учиться.
В мамином реагировании на меня при любом раскладе вставал некий перпендикуляр, как бы диктующий ей искажать толкование моих слов, о чём бы ни стремилась я с ней поговорить. Её монологи-потоки по поводу несбывшихся ожиданий и надежд комментировать было нельзя – тут же заподозрит в чём-то таком, что и в голову мне не приходило. Разрешалось только слушать и молчать. Механически поддакивать, но не развивать тему в своём представлении. Мнительность её, непредсказуемость в реакции на слова мои в мирном русле беседы, разводила нас по полюсам.
Однако я заметила очевидное в плане родственной связки.
Импульсивность, безвольность, а отсюда и управляемость в натурах мамы и дедушки определили их судьбы по большому счёту. Постоянство у них прослеживается от обратного: «не склонны к перемене мест». У деда учёба высветилась по воле сильных родителей; потом его, слабовольного ленивца, вынесло, как щепку в водовороте, в Усолье: «по назначению».
Я вспоминаю события тех времен через историю: страна остро нуждалась в образованных людях. Они были на вес золота, поэтому неудивительно, как благоволила деду жизнь постами, партийными решениями «направить», «оставить», «предоставить», а то и «наградить». Почему бы нет?! Послушный, исполнительный, правильный был коммунист. Честь и слава такому начальнику.
Но был ли он личностью? Позволю дерзко заявить: нет. Протестировано мною на встрече. А хотелось бы гордиться, как любому потомку в третьем поколении.
Слава Богу, бабушкины братья компенсировали недостающую энергию этого яркого чувства.
Что касается рода Кутузовых по линии деда, то, действительно, здесь наблюдаются знатность и богатство: все в их роду сплошь образованные люди, проработали на высоких постах: «завы», директора. Вот только презрительность, с которой они отмежевались от бедной Маши с потомками, очень-очень настораживает. Бог им судья. Несу свой крест. Не прогибаюсь.
Глава 5. Двое на острове грёз
«Трагедия машет мантией мишурной»
Из книги М.Б. «Тайному другу»Свет во тьме
Он и она встретились в пятьдесят первом, их любовь была реальностью, и доказательство этому – моя жизнь. Ещё сохранились его письма. Писали маме и родные отца… Письма по счастливой случайности получились живыми в интонациях, такими живыми, как если бы это была стенография устного обращения к Лидии: с Украины – на Дальний Восток.
И мама, и старший брат Виталия, вернувшийся с войны живым, и сёстры в своём горе оказались беззащитными: это была гибель младшенького в семье, бессмысленная гибель офицера – в мирное время. Особым обернулось и то обстоятельство, что родителям было уже по сорок шесть, когда он только появился на свет.
Его племянницы Алла и Лида, запечатлённые в числе других на снимках, станут для меня образцами стиля пятидесятых: утончённые, красивые, интеллигентные. Они были студентками. На фотографиях, где мы вместе, мне – два года.
Племянник Юра, высокий привлекательный мужчина, при встрече со мной уже в мои двадцать запомнится трогательным человеком с потрясающе чувствительной душой чистого ребёнка.
В далёком пятьдесят шестом эти люди до рождения уже полюбят меня и примут как утешительный знак памяти о Виталии. Бабушка полюбила меня настолько исключительно, что посылала мне в письмах… поклоны! Да, это было уже без папы.
Но при всей благодарности родным меня больше интересовала жизнь в чувствах двоих. Как сложилось, из каких моментов, это взаимное притяжение, давшее им понять, что это и есть объединившая их судьба, а не какая-то случайность? Переписка донесла до меня возможность увидеть жизнь двоих в картинах.
Читая письма, я настроила слух на танцевальную музыку духового оркестра той поры. Не помогло: всё время думала, чем завершилась история этих отношений.
Двойственное состояние порождала иная звукопись. То и дело врывались мешающие их диалогу звуки стихии, свирепого ветра в завываниях. Интересно, как выглядит человек, который должен вот-вот погибнуть? Есть ли какая-то на нём печать обречённости, прорываются ли в нём ноты отчаяния, опасение что-то важное не успеть довести до конца? Или, может быть, выдаст его постоянство грусти поверх ровного проживания будничных, серых дней? Сквозь интонацию пишущего короткие, но эмоциональные письма я всё время слышала терзающий душу свист цунами. Мне, смотрящей на историю с вершины прожитых лет, было больно видеть и понимать её трагизм. Да, читать письма отца мне мешало знание, чем история закончится. Но я прочитала за одну ночь всё, что хранилось в моём шкафу, а до этого перевозилось с места на место в ожидании многолетнем именно такого настроения: на одном дыхании однажды одолеть всё, приняв содержание как сюжет в единстве времени, места, действия – от начала до конца.
Уже светало, когда я закончила читать эти полуистлевшие от времени тетрадные листочки, исписанные странным, с резким наклоном влево почерком то чернилами, то карандашом, и Луганские послания от родных с заветными координатами: улица Циолковского, 43 (родовое гнездо). Вспышкой пронзило ощущение, будто распахнулась невидимая дверь, позволив мне войти в пространство событий, когда-то изменивших жизнь родителей, предельно приблизила меня к ним и «под занавес» окатила ледяной – пробуждающей, как ток, – энергией из сплава радости и грусти, ярких мгновений счастья и страданий. (Только вот именно страдания оказались живее всего. Каждое восьмое марта разворачивались они во мне во всей непереносимости остроты, с первых лет привитой мамой, которую всю жизнь отличал этот бессознательный эгоизм… Ну не ведала, что творит с душой ребёнка, – какой с неё спрос?!)
Я оглядела свой холл с огромным окном в светлеющее небо. Дверь в волшебно живое пространство с горькой историей родителей оставила открытой, как будто кто-то свыше предписал постоять на пороге, – так я оказалась на грани двух миров. Холодный, беспощадно пронизывающий ветер всё с тем же предельным свистом ворвался в мою ночную тишину. И я ощутила одновременно и дыхание смерти, отнявшей у меня отца, и дыхание любви, которая расцветает во мне неукротимым весенним садом, несмотря на бесплотное видение автора беспокойных писем. Конечно, никакие фотографии, никакие явственно проступающие интонации в строчках, дышащих чувством, не заменят мне здесь и сейчас звучащего голоса и реального объятия. Но он живёт в моих генах и незримо определяет направление пути. Кто знает… А вдруг это так и есть: определяет – помогает?!
Без выбора
Лиде было двадцать, когда её стаж работы составил уже семь лет. Это впечатляло даже в те послевоенные годы и не могло не вызвать уважения к девушке, получившей богатый опыт на погрузке-разгрузке вагонов в войну, позже – на хранении складов с зерном и мукой. Конечно, её опыт ценили, и для её натуры, терпеливой к рутине, было комфортно существовать в заданном раз и навсегда порядке. Новички приходили и уходили, а она оставалась, верная обретённым навыкам. Не решалась менять что-либо в своей жизни, хотя война давно закончилась и можно было подыскать занятие по душе. Но так вопрос никогда не ставился в её жизни. Направление определялось отцом, в семье, а главное – нуждами семьи: работай, как прежде, заведуй складами, получай премии к зарплате за своё умение и труд. Другого не обсуждали и не допускали, а все деньги она приносила маме, моей бабушке. Большая семья получала ощутимую поддержку благодаря её вкладу. Девушка даже не задумывалась над вариантами судьбы, смирившись с волей старших.

