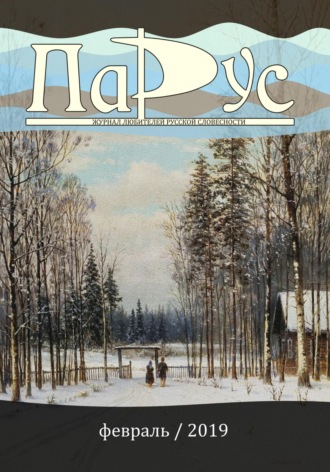
Журнал «Парус» №72, 2019 г.

Ирина Калус, Владислав Пеньков, Елена Ивахненко, Александр Шуралёв, Дмитрий Лагутин, Николай Смирнов, Евгений Чеканов, Юлия Сытина, Михаил Назаров, Николай Ильин, Андрей Румянцев, Татьяна Ливанова, Вячеслав Александров, Валентин Баюканский, Еп. Виссарион Нечаев, Вацлав Михальский, Валерий Топорков, Михаил Белозёров, Надежда Кускова, Алексей Котов, Василий Пухальский
Журнал «Парус» №72, 2019 г.
Цитата
Аполлон МАЙКОВ
ЗИМНЕЕ УТРО
Морозит. Снег хрустит. Туманы над полями.
Из хижин ранний дым разносится клубами
В янтарном зареве пылающих небес.
В раздумии глядит на обнаженный лес,
На домы, крытые ковром младого снега,
На зеркало реки, застынувшей у брега,
Светила дневного кровавое ядро.
Отливом пурпурным блестит снегов сребро;
Иглистым инеем, как будто пухом белым,
Унизана кора по ветвям помертвелым.
Люблю я сквозь стекла блистательный узор
Картиной новою увеселять свой взор;
Люблю в тиши смотреть, как раннею порою
Деревня весело встречается с зимою…
(…)
1839, Санкт-Петербург
Художественное слово: поэзия
Влад ПЕНЬКОВ. То, что где-то выше
СТАРШИЙ, МУЖИЦКИЙ
Снег ты мой, снег.
Старший. Мужицкий.
Саночек бег.
В брюхе кружится.
Дома портки
Гритта стирает.
Души легки.
Плоть умирает.
Слёзы из глаз.
Снег на ресницах.
Горы колбас.
Небо на птицах.
АКУТАГАВА
Люблю литературу
и долгую, что сны,
осеннюю фигуру
осенней же сосны.
Люблю совсем не славу,
а тот короткий миг,
когда Акутагаву
я вижу среди книг.
Когда заходит солнце
и чуть плотней в лучах
и силуэт японца,
и горечь на губах.
В поэзии нет смысла, —
японец говорит, —
она лишь коромысло
для счастья и обид.
Померкшие пучины.
Во мне и вдалеке
взгрустнувшие мужчины
над чашками сакэ.
BEETHOVEN OP. 69
Когда – особенно – закат.
…и ты как будто умираешь,
и ты как будто виноват,
но этого не понимаешь.
Вокруг колышется трава,
она застигнута закатом.
Из вас троих она права
одна. Она не виновата.
ВЛАДИВОСТОК 1970
Из снега месяц слепленный,
как баба в январе.
Ах, как поёт «Лед Зеппелин»
в России, во дворе!
Ребята курят всякое.
Ни горя, ни невзгод.
Ведь ты не будешь бякою,
семидесятый год?
Мне песней колыбельною
английский этот рок
над мачтой корабельною.
Балдей, Владивосток!
Туфтою ресторанною
грохочет ресторан.
Но эту песню странную
принёс мне океан.
Не вздохами, не верезгом
идущий снег пропах,
пропах он красным вереском
в девчачьих волосах.
Жму руку вам пацанью я,
мальчишки этих лет,
спасибо вам за дальнюю
дорогу и билет
на хлипкое судёнышко —
советский цеппелин,
за семечко, за зёрнышко,
за землю наших глин.
Спасибо вам, хорошие,
за то, что стонет двор,
тот, снегом запорошенный
от тех до этих пор.
ПОД САЙМОНА И ГАРФАНКЕЛЯ
Наташе
Колокольчик во мне динь-динь-дон
голосами русалок и фей —
то ли степь, то ли батюшка-Дон,
то ли песня про Scarborough Fair.
Наводи поскорей марафет,
и со мной умирать погоди.
Нам поющий нью-йоркский дуэт
говорит о годах впереди.
Колокольчик, звенящий в душе, —
это – ярмарка. Но – ни рубля!
На грошовой китайской лапше
испокон и держалась Земля.
Выйди встретить меня на крыльцо,
завари мне тарелку лапши,
и подставь поцелуям лицо,
и со мной умереть не спеши.
А нью-йоркский дуэт так хорош,
сорок лет миновало, но вновь
умоляет, мол вынь да положь
всё прощанье, прощенье, любовь.
ЛОПУХ
«В келье инока Зосимы
тело бренное смердит…»
О. Т.
Мы с тобою поносимы.
Выносимы? Да едва ль.
Не найду себе Зосимы.
Не повем свою печаль.
Лопухи на огороде.
Смердяковы у дверей.
Что-то общее в природе
человека и зверей.
Что-то жалкое такое.
Может, нежность… может, грусть.
Ожидание покоя,
беспокойство… Ну и пусть!
Пусть расцвел лопух – он тоже
нам с тобою в унисон.
У него ведь – дрожь по коже,
у него – кошмарный сон.
THE BYRDS
И пускай ко мне слетятся
стайки певчие подруг.
Эти птицы не боятся
холодов, мороза, вьюг.
Пусть влетят в грудную клетку,
чтобы сердце расклевать.
Приглашаю их на ветку —
петь, чирикать, ночевать.
А особенно – одну из.
Ту, что плачет тише всех,
ту, что, плача и волнуясь,
издаёт лишь тихий смех.
Эта птица вам известна
до схождения с ума.
Я её зову – невеста.
Вы её зовёте – тьма.
БЕЗ ОБМАНА
Это верная примета —
бабочки летят на свет.
Значит, наступило лето.
Сколько будет этих лет?
Лучше осень. Без обмана
говорят, что прожил ты,
клочья серого тумана
и увядшие цветы.
Карусельные лошадки,
где же ваша суета?
Пахнут астры – запах сладкий
госпитального бинта.
«ПРОЩАЙ, И ЕСЛИ НАВСЕГДА…»
Электричка проходит со свистом,
рассыпается свист в вышине.
Написать бы о вечере мглистом.
Нет, обычный был вечер вполне.
В сочных травах бродили коровы,
ясноокие девы полей.
Были живы мы, были здоровы,
говорили друг другу – «Налей».
Наливали в бумажный стаканчик,
наливали в гранёный стакан.
И хотя бы какой-то туманчик!
Но бывает прозрачный туман —
всё прекрасно в прозрачном тумане,
всё в прозрачном тумане легко,
никогда ни за что не обманет,
не уйдёт в пустяков молоко,
а останется глупым и юным,
словно Байрон. Рубашка бела.
Ветер. Поле. И сразу же дюны.
Жизнь идёт. И проходит. Была.
КОНОПЛЯНКА
Раз пошла такая пьянка,
значит, стало не до птиц…
Дай мне голос, коноплянка!
Приоткрой ресницы, Китс!
Непогода. Непогода,
хоть и розовый январь.
Но в такое время года
страшен утренний янтарь.
Остаётся разозлиться.
Режь последний огурец
на доске, на сердце Китса,
и на досках всех сердец!
Задыхаюсь, как пьянчуга.
Посинел мой бледный рот.
Повилика. Роза. Вьюга.
Всё опять наоборот.
Что скажу я? Что ответишь?
Ты – прекрасно далека,
и оттуда нежно светишь,
словно ангела щека.
Китс садится за страницу,
Китс ложится в тьму земли.
Я люблю тебя как птицу —
так смертельно, так вдали,
что и сам уже не знаю —
что могу, что не могу.
Только насмерть замерзаю
я на розовом лугу.
КОНТАКТ
Небо многоярусно.
То, что где-то выше,
это – многопарусно,
ниже – просто крыши.
Выше или ниже
этот флот проносится,
боль всё так же лижет
лоб и переносицу.
Я смотрю на белое,
брошенное якорем, —
дерево как дерево,
только – раскорякою.
Облако замедлится.
Зная наши вкусы,
вынесут безделицы —
пуговицы, бусы.
МАСТЕР
Олегу Тупицкому
Дырявый забор, хохлома
осеннего древнего леса.
Хотел бы сойти я с ума —
чтоб из одного интереса,
чтоб видеть и ночью, и днём —
вот Альфа горит, вот – Омега,
горят-не сгорают огнём
весёлого вечного снега.
А я выхожу босиком
(не видят, уснув, санитары)
с седой головой, с посошком
и полной сумой стеклотары.
Елена ИВАХНЕНКО. В тризелёное царство ухожу босиком
ДВОРИК МОЙ
Дворик мой – обитель местных пьяниц.
Сигаретный здесь клубится дым.
Здесь непьющий, словно иностранец,
Непонятен всем и нелюбим.
Наши окна смотрят на помойку.
Там, в серёдке чахленьких ветвей,
Год за годом с постоянством стойким
К нам взывает местный соловей.
Он поёт с надеждой непреложной,
И с такой же верой, как вчера,
Что жива святая искра Божья
Даже в грязных пьяницах двора.
ОДНАЖДЫ ВО ВРЕМЯ БОЙКОТА
Мало картошку на даче вырастить, —
Надо ещё довезти домой.
Вот и тащусь по своей же милости
С этой поклажею дорогой.
Вдруг – мужичок: «Вам помочь?» – «Пожалуйста».
И он разделяет со мною путь.
Мне не до флирта с ним, не до шалости;
Спасибо, хоть выручил кто-нибудь.
А он, побалакать, видать, настроенный,
Смеётся: «Ты тяжести не носи.
Вредно девчонкам. Красивым – особенно.
Грузы таскать муженька проси.
Замужем? А? Молодая вроде.
Стало быть, муж у тебя – дурак.
Что же на дачу с тобою не ходит?
Где он вообще, так его растак?
Вот я домовитой такой бы невесте
Сам бы всё выкопал – посадил.
И возвращались бы с дачи вместе,
Одну ни за что бы не отпустил.
Уж я бы… А плачешь почто, девчонка?
Видно, попал я не в бровь, а в глаз?
Дак ты разводись, пока нет ребёнка,
Не то наревёшься ещё не раз».
– Не ваше дело учить советами, —
Хочу возмутиться. Но взгляд застыл.
Только что рядом шёл – и нет его.
Поди догадайся, кто это был…
ТРИЗЕЛЁНОЕ ЦАРСТВО
Надоела неволя
В ритме будней мирских,
И сбежала я в поле
От людей городских.
Этот час будет прожит
Только мною одной, —
Здесь ничто не тревожит,
Здесь трава да покой.
Здесь и воздух – лекарство.
На ладони с жуком
В тризелёное царство
Ухожу босиком.
Я обутой не смею
Заходить в сей чертог,
Расстилается клевер
Для босых моих ног.
Пробираюсь по стёжке.
Воздух сладок, как мёд.
Значит, рядом «матрёшка» —
Белый зонтик цветёт.
От цветов её белых,
Как от снега, – вокруг,
Словно облако село
Ароматное в луг.
Средь соцветий душистых
Тихо-тихо стою
Первозданной и чистой,
Словно Ева в Раю.
Вот и час мною прожит…
Он как будто не мой,
А дарованный тоже
Безымянной святой.
Час…Какая-то малость…
В мир пора уходить.
Вот и всё. Отдышалась.
Можно заново жить!
ПРАВЕДНИК
Тебя у жены не украсть мне.
Сворованное – пропадёт.
Но птица безбрежного счастья
Во мне всё поёт и поёт.
Уж я-то и слёзно молилась,
Чтоб впредь о тебе не мечтать.
Зачем же она не простилась?
Не хочет никак улетать…
И чем неуёмная птица,
Какою надеждой жива?
Меж нами лежат две границы,
Да, видно, ей всё трын-трава.
Ты тоже – не хам, не грабитель,
В чужой не завалишься сад.
О, праведник мой и мучитель,
Зачем безупречно ты свят?
СВОБОДА
А на улице вешние воды.
Я живу! Я как будто расту!
Упиваюсь недолгой свободой —
От работы до дома иду.
Дома ждёт меня та же рутина.
В худшем случае – даже война.
Хоть на час от привычной картины
Я свободна, как эта весна.
И дышу её запахом талым.
Мне сегодня с ручьём по пути.
Как волшебно… И как это мало —
Лишь до дома свободной дойти.
РЕШЕНИЕ ОБО МНЕ
Как Везувий, муж пылал,
Обвиненья извергая.
Взяв за шиворот, пытал —
С кем ему я изменяю?
Изменяю – это факт:
По счастливой видно роже.
Ну, дождётся этот гад!
Да и я дождуся тоже.
Всё-то муж растолковал:
Кто я есть и в чём повинна.
Чемодан себе собрал
И ушёл демонстративно.
Я же – двери заперла…
Ни слезы, ни сожаленья…
Сына на руки взяла
И вздохнула с облегченьем.
СЫНУ
О, знойный июль, о, пора земляники
И сена душистого в дальних лугах!
Мы вновь отправляемся в путь наш великий
С едой и питьём на весь день в рюкзаках.
Дорога петляет деревней и полем.
Навстречу с корзинами люди идут.
Мы им незнакомы. Они нам – тем боле,
Но «здрасте!» киваешь ты всем на ходу.
Они остановятся недоумённо,
Вглядятся, но нас не припомнят никак.
А ты им – всё «здрасте!» Вот шут неуёмный!
Но в детстве я тоже здоровалась так.
И их удивлению так же смеялась.
Но – тихо, чтоб мой не обидел смешок.
Как жаль, что я с детством давно распрощалась.
Как славно, что помню его хорошо.
ВЕРУЮ…
Верую – горькие слёзы осушатся.
Верую – будем как дети прекрасные.
Господи, дай мне Тебя не ослушаться,
Видишь, лукавый вьёт сети опасные?
Вот они – плетями тянутся липкими
В помыслы самые-самые чистые.
О, ужасаюсь, какими ошибками
Можно упасть прямо в лапы когтистые…
О, не позволь этим бедам обрушиться.
Я – как сосуд со случайною трещиной.
Господи, дай мне Тебя не ослушаться,
Сам отними, что Тобой не обещано.
ПРОШЕДШЕЙ ДРУЖБЫ ЭПИЗОД
Я всё предвижу наперёд,
Чем удивлю тебя немало,
Прошедшей дружбы эпизод
Напомнить ли тебе сначала?
Ты помнишь – август. Чуть звенят
Стрекозы в чаще над болотом.
Берёзок лиственный наряд
Ещё не тронут позолотой.
И предосенние лучи
Сквозят, не обжигая зноем.
И я хочу сказать: «Молчи.
Молчи. Не нарушай покоя.
И дифирамбов не слагай,
Не обещай мне вечной дружбы.
Прошу, в слова не облекай
То, что хранить в молчанье нужно.
Не распыляй высоких слов.
Слова не так уж много значат.
Гляди, как стайки облаков
Пасутся на небе прозрачном.
Они легки и не таят
В себе ни сумрака, ни смуты.
Молчи и впитывай, как я,
Весь день сегодня, до минуты.
Весь день, когда душа могла
Другую до краёв наполнить.
А после…Я не вспомню зла…
Я только этот день и вспомню».
ДРУГ И ВРАГ
Как верно то, что враг не бережёт,
Не милует, прощения не просит,
Так верно то, что дружба не солжет
И не предаст. И лишнего не спросит.
Но было почему-то суждено,
Что друг мой – предал. Предал без смущенья.
Я, может, умерла бы с горя, но
Как раз в тот день и враг просил прощенья.
МНЕ ДАРОВАНО
Мне даровано это утро,
Словно не было бурь и бедствий,
Безмятежное, светлое, будто
Я осталась такой, как в детстве.
Белый снег. Словно мир умылся.
Словно Божьего ждёт привета.
И небесный свет отразился
В нём сиянием фиолетовым.
Фиолетовые просторы,
А на них позолота льётся —
Это в небе, совсем как в море,
Солнце плавает и смеётся.
Боже мой, благодать какая!
Как, наверно, в Небесном Царстве.
Может быть, там давно не знают
О земной любви и коварстве?
О, Господь! Этот снег искристый
И приводит меня к смиренью —
Не осталась я столь же чистой.
А была я Твоим твореньем…
Р.S.
Помнишь, как-то апрель наступил —
Словно жребий нечаянный выпал?
Тёплым дождиком город умыл,
Мать-и-мачеху всюду рассыпал.
А над россыпью первых цветов
Неувиденной вольною птицей
Где-то здесь пролетала Любовь
И искала, в кого воплотиться.
Гас восторг её, никли крыла —
В миллионах супружеских спален
Нужной пары она не нашла,
Не её без конца призывали.
Не о ней воссылали мольбы.
Но Любовь дожидалась момента.
И, по странным капризам судьбы,
Мы с тобой приглянулись ей чем-то.
Это было с её стороны
Так тепло… Так неслыханно мило,
Ты любил меня больше жены,
Я тебя больше мужа любила.
Помнишь, наши встречались глаза?
Мы от счастья едва не кричали.
Нас держало святое «нельзя»,
Потому мы о главном молчали.
Помнишь, как ты был счастлив и свят?
А с тобою и я – что святая.
Это было три года назад.
И неправда, что так не бывает.
Александр ШУРАЛЁВ. Буковка таинственного слога
НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Застрянет в горле слёзный ком
в пургу на бездорожье…
Давай не будем – о плохом,
а о хорошем… тоже.
Давай не будем – ни о чём,
но верными шагами
к чему-то важному придём
друзьями – не врагами.
Делясь последним сухарём,
проложим путь до крова,
в неизречённом сбережём
спасительное Слово.
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
Памяти отца
Скажу «спасибо» школьной кори и на том,
что я из физики запомнил слово «ом»,
из арифметики – считалку «дважды два»,
из геометрии – упёртость в лоб угла.
Но не во всех науках был я столь горазд,
болтаясь где-то на «камчатке» как балласт.
Мажорной нотой завершить пора пролог:
бежать вприпрыжку на любимый мой урок…
На карте контурной белел счастливый путь,
чуть брезжил жёлтой субмариной Ливерпуль,
вдали филонили Филонов и Дали,
с краюшкой Хлебников – на краешке земли…
А рядом, истину от плевел отделив,
самих себя нам, несмышлёнышам, открыв,
скрутив рутину и подлог в бараний рог,
вдыхал в нас радужную гамму педагог.
И понималось что-то важное в тот час,
и поднимало над обыденностью нас,
и помогало чувство локтя ощутить,
и путеводную давало в руки нить,
уча балбесов не баклуши бить от скуки,
а, как бросают в пашню зёрна, слушать звуки.
ПЕРЦЫ
Северные ветры
дули невпопад.
Серенькие гетры.
Исподлобья взгляд.
Фейерверк из рыжих
всклоченных волос.
Руки-пассатижи.
Буратинный нос…
А в пацанском сердце
вместе с ней росли,
как на грядке – перцы,
пряности любви.
СКАЗКА ЛОСОСЯ
Сквозь чащу продирающийся лось
рогами зацепил земную ось,
и предсказанье тайное сбылось:
заговорил по-человечески лосось.
Он мне поведал сказку о зверях,
запутавшихся в числах и словах,
о кронах мира, листьях и корнях,
о том, что грех всё превращает в прах…
Как у подножия скалы-махины
улитка силится достичь вершины,
так через пустоту небытия
пытаются прорваться наши я…
ОРЁЛ
Бывает, что всё не так:
окрестность – глухой тупик,
в душе – непроглядный мрак,
раскис, растерялся, сник.
Осталось собрать рюкзак,
решимости наскрести,
отправиться на вокзал,
былому шепнув: «Прости».
Сесть в поезд, идущий вдаль,
в вагоне на посошок
в чаю растворить печаль
и махонький сахарок.
Сплетая узоры фраз,
за словом не лезть в карман:
с попутчиками – рассказ,
с попутчицами – роман…
Растопится чей-то лёд,
затеплится чей-то свет,
а поезд идёт вперёд,
и рельсы как длинный след.
Осталось под стук колёс
о чём-то хорошем спеть,
то ль в шутку, а то ль всерьёз
метнуть наудачу медь.
Не спать, а всю ночь мечтать
и строить воздушный дом,
пятак в кулаке зажать,
нацеленный вверх орлом.
Остался совсем пустяк:
сойти где-нибудь с утра,
разжать с пятаком кулак
и выпустить в высь орла.
ОБРЫВ
В людском потоке на вокзале,
ошпарив с пылу матюком,
меня толкнули, обозвали
и погрозили кулаком.
Ответить, что ли, ради смеха
за всех пока ещё живых?
В карман – за словом… Там – прореха
и белых ниточек обрыв.
ХАРЧЕВНЯ
Придорожной закусочной снедь —
твердь котлеты и щей ополосок…
Может лишь беспристрастный философ
приготовить такое суметь.
Тараканов ленивая прыть,
неопрятное чванство обслуги…
Забываешь иные недуги,
если здесь посчастливится быть.
Но и всё же, и всё же, и всё ж
слыть негоже брезгливым пижоном:
переваришь желудком лужёным
то, что хилым умом не поймёшь.
ТРАВИНКА
В лугах медвяный аромат сочней,
звучнее лета хоровое пенье.
Ищу в воде спасенье от слепней,
навязчивых до умопомраченья.
Отлогий берег за чертой лугов
влечёт песчано-пляжною косою —
черновиком для записи следов,
настойчиво смываемых волною.
На отмели – подводная трава,
застигнутая наступленьем суши.
Как будто сокровенные слова
природы я нечаянно подслушал.
То ли во сне, а то ли наяву,
как буковку таинственного слога,
травинку от основы оторву
и вздрогну от внезапного ожога…
Взметнулся из глубин девятый вал.
Ушли под воду все земные мели.
Я точку ненароком оторвал,
пересеклись в которой параллели.
Мелькнул и скрылся под водой огонь,
как отблеск очистительного пекла.
Дымится обгоревшая ладонь,
и дотлевает в ней щепотка пепла.
Художественное слово: проза
Дмитрий ЛАГУТИН. Дядя Север
Рассказ
Два раза в год к нам приезжал брат отца – дядя Игорь. Он работал где-то далеко на севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него были густая черная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.
Мы, дети, им восторгались.
Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вел знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями – мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их птичьем языке. И в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окруженный стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.
Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная – три года. Мать дядю недолюбливала, но внешне этого не выказывала.
– Никак не повзрослеет, – говорила она.
Мы удивлялись ее словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, – не по возрасту, а по самому своему существу.
Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, затапливал резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.
– Дядь, дядь, расскажи про север, – обступали мы его.
Дядя ерошил волосы, – на висках они уже начинали седеть, – пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:
– Про север?
Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на перильцах. Не вместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.
Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «Как-то раз».
– Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию…
Или:
– Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу…
Или же:
– Как-то раз сообщили нам, что с гор идет лавина…
Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночевка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих свое место.

