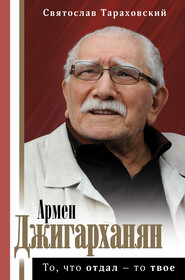По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отважный муж в минуты страха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Есть только один-единственный способ победить в себе страх. Один и единственный, другого не дано. Вон он, черное средоточие страха и обитель его. До него десять метров, не более. Десять метров и двадцать лет. Смогу?»
Он заставил себя подняться на ноги.
И, преодолев десять метров и двадцать лет, негромко, но жестко и точно, будто дротик, метнул в широкую черную спину, бросил: «Привет, Альберт»…
2
Телефон. Конечно. Он помнит. Кошмары и подвиги начались с него.
Черный, старый, с перекрученным шнуром, захватанный сотнями рук аппарат, что четверть века назад стоял на его рабочем столе в агентстве печати «Новости», и однажды весенним утром вздрогнул и заголосил как живой.
Лист бумаги, выползавший из его пишущей машинки, замер – он сочинял статью, он печатал, он не любил, когда его прерывали, он снял трубку с неудовольствием.
– Да.
– Сташевский? – спросила трубка. – Александр Григорьевич? Здравствуйте. С вами говорят из Комитета государственной безопасности…
Остаток того неприкаянного дня он посвятил поиску ответа на один простой вопрос: почему он? Сорок лет назад в жестокую войну НКВД наехало на его деда, теперь, в разгар перестроечной свободы, прихватывает его – почему? Чекисты действуют независимо от времени и веяний эпохи – это он уяснил сразу, но почему именно его род каждый раз попадает под их каток, и почему сейчас в их заброшенном неводе оказался именно он, Саша Сташевский? Проклятие запрятано в его генах, во внешности, в характере?
Непонятно. Невозможно понять…
Он был обычным парнем, рожденным в глухое советское время, почитаемое одними как славное, проклинаемое другими как застой.
Славянская генетическая закваска от бабушек и дедушек, плюс немного еврейского перчика, украинской горилки и татарского соуса тар-тар со стороны других бабушек и других дедушек – таков был его добротный, но, в общем, типичный советский замес.
До трех лет его никто не учил читать, считали, рановато; чтобы не приставал с вопросами, ему давали на растерзание детские книжки, карандаши и фломастеры – пусть ребенок срисовывает картинки и буквы. Однажды, в три года и шесть месяцев, когда мама кормила вернувшегося со смены киношника-отца, он притопал на кухню и начал читать Маршака – абсолютно свободно, без запинки. Отец, поперхнувшись, долго и тяжко выкашливал картофельное пюре.
Отец, директор картины на «Мосфильме», и мать, артистка Театра оперетты, были советскими интеллигентами в первом поколении, о своем деревенском первородстве старались не вспоминать, но оно коварно прорывалось в их поступках.
Их единственный и ненаглядный Саша родился в тот год, когда небогатая советская страна совершила подвиг, которого от нее не ждали: она забросила в космос Гагарина. Запад вздрогнул и осознал, что ни черта не смыслит в огромной восточной империи и в ее нелинейных людях.
Так и пошло: обычный мальчик парадоксального времени самой парадоксальной страны, жизнь обтачивала его по отечественному лекалу.
В полтора он начал проситься на горшок, но всегда по-российски опаздывал, а когда мама его ругала, очень по-российски над собой смеялся.
В три родители взяли его с собой в Нару на похороны прадедушки Андрея, выходца из украинского города Чернигова. Картины гроба, чадящих свечей, попа с приторным кадилом, мельтешащей родни, а главное, белобородого деда в гробу поразили его; с тех пор на протяжении всей жизни он частенько и навязчиво представлял себя лежащим на месте дедушки Андрея, и, что любопытно, такая фантазия не очень его пугала.
В четыре он уже неплохо играл в шахматы и обыгрывал отца, несмотря на папин третий разряд. Он наверняка мог бы стать большим шахматистом, но увлечение резными фигурками и доской прошло, когда он увлекся солдатиками и собиранием марок. Спустя три года пухлый кляссер с марками отняли во дворе взрослые ребята, он кричал и сопротивлялся, его отпихнули и сбили с ног – тогда он впервые прочувствовал, что такое сила и что такое беспомощность перед силой.
В пять самым страшным для него испытанием было одиночество в пустой квартире. Страх рано вошел в его жизнь. Скрип полов, неясные стуки за стеной, гугуканье воды в трубах бросали его в дрожь, за каждой тенью на полу или обоях чудились чудовище и злодеяние. В жуткие минуты он забирался на стул, стоявший подле входной двери, и прислушивался к жизни, что происходила на лестнице: шарканью ног, стуку лифта, голосам, – страх немного отпускал, когда узнавались голоса соседей, например, громогласной Тамары Папян, про которую он уже знал, что она называется армянка и поет в хоре. Часами сидя под дверью, он бубнил про себя или полушепотом считалку-заклинание, заговор на родителей, чтоб они поскорее возвращались домой. «Приходите, приходите, приходите и больше никогда не уходите. Я вас буду очень любить, а сейчас я вас не любить». Когда в замке начинал скворчать вставляемый ключ, он, ликуя, бросался к двери будто бы из комнат, и про его мучительное сидение никто никогда не догадывался; зато он, юный мечтатель, был уверен, что на приход родителей волшебно действует заговор и, значит, страх можно победить, потому что существуют такие слова, которые способны менять жизнь к лучшему.
Да, он рос любознательным. В восемь начал подглядывать за гостившей у них все лето двоюродной сестрой Анькой, приехавшей из Киева поступать в московский театральный вуз. В девять от старших ребят во дворе узнал заманчивое, похожее на лязг стальных ножниц, слово «секс», а также откуда он взялся и что происходит между мужчиной и женщиной, когда они этого хотят. Просыпаясь ночами, он прислушивался к тому, что делают папа и мама; порой ему казалось, он слышал то, о чем рассказывали дружки, и тогда смелые фантазии обгоняли его возраст.
Мальчик имел натуру открытую и жадную до впечатлений жизни. Со двора большого дома он частенько возвращался домой в разорванной одежде, синяках, крови и с крепко поставленным матом. Родители наказывали сорванца, но не шибко строго, учился Сашка блестяще и до поры доставлял им больше радости, чем огорчений. В школу он пошел шести лет, в десять его перевели сразу в пятый класс, поскольку в четвертом ему было скучно; от скуки он затевал, как жаловались учителя, «посторонние разговоры, чем отвлекал остальной класс от усвоения материала». Он с легкостью решал задачки и справлялся с контрольными, но в классе хохмил, распоясывался все больше, и родители были вынуждены принять меры. Отец наказывал его чувствительней, чем мать, в сердцах дорогой родитель частенько крестил сынка «кретином», но в детстве сын любил отца много больше взрывной опереточной матери. Оплеухи Саше иногда перепадали, но откровенно пороть сына не решались – слишком несовременно, в угол не ставили – слишком старомодно, компьютера не лишали – не было тогда компьютеров у счастливых детей, ему придумали другое мудреное наказание. В геометрический центр комнаты ставилось большое старинное кресло, и к его деревянным ручкам родители перед уходом из квартиры привязывали десятилетнего Сашу. (Вот она, вот во всей красе родительская первородная деревенская жестокость, помноженная на искаженно воспринятые идеи современного воспитания!) Способный мальчик быстро научился высвобождать руки и всего себя от веревок; пока родителей не было, он делал в доме что хотел, но, едва заслышав хлопнувшую дверь, снова запрыгивал в пыточное кресло, примыкался к нему веревками и надевал на себя скорбное лицо. Обе стороны были довольны: родители, исполнявшие функцию наказания и закрывавшие глаза на Сашину хитрость, и Саша, рано сообразивший, что вранье хоть и противно, но приносит пользу.
Он много читал. Два шкафа хороших книг сумел собрать в квартире отец, и, понятно, что Саша в первую очередь читал то, что до поры ему читать не позволялось. Продуманной системы чтения у него не было, да она ему была и не нужна. Открывая обложку очередного собрания сочинений, он взял себе за правило прочитывать его целиком, до переписки и комментариев. Так были поглощены шедевры Майн Рида и Джека Лондона, а далее сразу Толстой, Бальзак, Мопассан, Горький, Чехов и все, что попадалось под руку. Книжная мудрость, как каждому интеллигенту, во многом заменяла ему разнообразный опыт жизни; во всяком случае, он хорошо уяснил, что такое честь, совесть, достоинство, мужество, бескорыстие, а также стыд за то, что эти качества в тебе отсутствуют.
В четырнадцать за лето Саша сильно добавил в росте, начал играть в баскетбол и через два года стал капитаном школьной команды; вид мяча, падающего в корзину, снился ему ночами и рождал в нем множество половозрелых ассоциаций. В итоге в четырнадцать он начал бриться, следить за внешностью и писать высокие стихи. Первые, не самые плохие, были посвящены рыжей однокласснице Алке Полохиной; он помогал ей с математикой, провожал до дома, говорил о любви и старался прорваться к серьезным поцелуям с продолжением. Испугавшись такого напора, Полохина от большого ума предпочла ему тихоню Леню Михеева. Так, по-девичьи трепетно, ему и сказала: «Отстань, Сташевский, надоел, мне нравится другой». Саша был потрясен; чтобы отвлечься от жгучей горечи, он бросил школьный баскетбол и увлекся пулевой стрельбой в тире на стороне, упражнение «три по десять, лежа, с колена, стоя» сделалось его любимым видом. Всаживая в мишень пулю за пулей, думая о подлой Алке и гнусном Михееве, он как клятву повторял сокровенные слова тренера Корыстылева: «В человеке, в отличие от мишени, куда ни попади, везде десятка». Душевная рана долго саднила, он не сразу отказался от Алки, боролся за нее долго и мужественно, и все фатально кончилось тем, чем кончилось на торжественной общешкольной первомайской линейке.
Директор школы, громоподобная Юлия Терентьевна, выступая перед учащимися с речью о великом празднике солидарности трудящихся, стремительно и бурно говорила о долге каждого ученика повышать успеваемость и крепить дисциплину. Алка и Михеев стояли в строю неподалеку от Саши. Они шептались, хихикали, соприкасались рукавами – смотреть на это было ему в лом, а все же смотрел, чернел, мысли бешено носились по орбитам его неглупой головы и, наконец, сообразил, что должен здесь и сейчас совершить нечто такое героическое, такое необыкновенное, что навсегда отвадит Алку от постного Михеева. Подняв руку, он шагнул из строя, обозначив для Юлии Терентьевны – кстати, она вела историю в старших классах – желание задать вопрос по теме, и, получив, как положено, разрешение, громко спросил уважаемую даму, что сегодня, в честь праздника, она рекомендует пить: коньяк или водку? Школа грохнула и притихла, Алку окончательно отвернуло к Михееву.
Его хотели показать врачу-психиатру но Юлия Терентьевна, дабы не портить в РОНО впечатление о вверенном ей учебном заведении, не стала раздувать скандал. Последовало двухнедельное исключение из школы, очередное почетное звание «кретин», полученное от отца, и никому из взрослых не пришло в голову, что парень элементарно пострадал от первой любви.
И все же в школе его преследовали успехи. Он был спортсменом и лидером, веселым хулиганом и отличником; в классе его любили за то, что, когда к нему обращались за помощью, он никогда никому не отказывал. Если требовалось, чтобы математичка Клавдия Александровна не успела кого-нибудь спросить, никто лучше него не мог ее заболтать и отвлечь. Он задавал ей сумасшедшие спорные вопросы из высшей математики, экологии, лыжного спорта – поскольку она фанатела от леса, природы, птичек и лыж; азартная, с редкими усиками на тонких губах, Клавдия Александровна велась на его хитрость, с места включалась в спор, и добрая половина урока, счастливо для кого-то, улетала в небытие. Математичка его обожала; в четырнадцать он был направлен ею для участия в городской математической Олимпиаде, где с блеском попал в число первых призеров. Та же история повторилась на следующий год и еще два года подряд вплоть до окончания школы. Родители и педагогический коллектив во главе с предусмотрительной Юлией Терентьевной были уверены, что Сташевский поступит в физтех и, во славу школы, продолжит большую физико-математическую карьеру. Да-да, конечно, обязательно, заверил он всех и Клавдию Александровну в первую очередь, и от большого своего парадоксального таланта поступил в Институт стран Азии и Африки, что при МГУ на улице Моховой.
Ничего он раньше не знал о стране Иран, никогда не читал великой персидской поэзии и часом раньше рокового решения ветреным июньским утром ступил во двор старого корпуса МГУ с несгибаемым намерением сдать документы на факультет журналистики – ему, в отличие от математички, казалось, что именно журналистика, бойкая, оперативная и содержательная, как нельзя лучше подходит и времени, и его активному организму. Так или иначе, простояв час в очереди на сдачу документов и до головной боли офонарев от запахов парфюма преимущественно женской, болтливой очереди, он вышел на перекур в университетский дворик, известный под названием «психодром». Дворик представлял собой зеленый вогнутый полукруг с клумбой посредине; закурив, он двинулся вдоль него, обозрел памятник Герцена и, далее, друга его Огарева, когда-то тянувших здесь учебную лямку, дошел до конца полукруга и совсем неожиданно наткнулся на свободный от перебора девчонок, толчеи и очереди вход в Институт стран Азии и Африки.
Показалось любопытным; потянул на себя массивную дверь, ступил в прохладу, полумрак и оказался в пещере чудес.
Индийские сари и погонщики слонов. Вечные пирамиды Египта, шейхи, кальяны и провоцирующий танец живота. Голубые иранские мечети, мавзолеи поэтов, персидские ковры и нефтяные вышки. Японские гороподобные борцы сумо, китайские пагоды, джунгли Камбоджи и черные маски Конго.
Громоздкие, со всем этим сказочным богатством фотопанно на стенах говорили на разных мелодичных или гортанных языках, непонятно и разноцветно жили, много или мало работали, воевали, пели, танцевали и до забытья завораживали Сашу. Словно в неторопливое путешествие он пустился по восточным странам, они восхищали его все, каждая на свой манер; через час он достиг конца не очень длинного коридора и на повороте увидел указующую синюю стрелу с надписью «Приемная комиссия». Тотчас вспомнил, зачем пришел сегодня на Моховую, вспомнил журфак, очередь, которая, наверное, уже подходила, ощутил, будто живую, шевельнувшуюся под мышкой папку с документами и, на радость свою и свою беду остался на Востоке.
Институт стран Азии и Африки в огромном сообществе МГУ существовал на правах факультета, но был орденом полузакрытым, потому и носил странный предлог «при». При небольшом мозговом усилии нетрудно было бы догадаться, кто курировал и пестовал этот орден, но кому из счастливых первокурсников пристало углубляться в названия? А если кому-то и пристало, то кого из молодых не греет чувство собственной избранности, романтический огонь таинственности и острых приключений? Институт готовил переводчиков, дипломатов и научных работников, но, выражаясь точнее, каждый представитель таких профессий мог быть, при государственной в том нужде, срочно переделан в шпиона, простите, разведчика – потому и принимали туда женский пол в количестве, не превышавшем пятнадцати процентов от общего числа студентов. Женщины реже мужчин становятся шпионками, то есть, простите, разведчицами, функция у них по жизни другая (правда, если становятся, то уж на все времена – как Юдифь или Мата Хари), да и наказывать их за такие игры в стократ сложнее. Ничего не стоит по приговору высокого суда негромко шлепнуть в подвале, назидательно повесить во дворе или даже поджарить на электрическом стуле шпиона-мужчину; сотворить подобное с прекрасным полом цивилизованные суды, где верховодят мужчины, позволить себе не могут. Так что дамы-феминистки, добивающиеся тендерного равноправия, должны быть счастливы, что оно, равноправие, в принципе невозможно.
Ни о чем таком подобном Саша Сташевский не задумывался. Учил в кайф персидско-арабскую вязь и певучий фарси, язык соловьев и роз, по справедливости называемый французским языком Востока. Он, с его врожденной музыкальностью, перенимал фонетику и интонацию языка так легко, что к третьему курсу практически не имел акцента. А еще он тащился от поэзии Рудаки, Саади, Хафиза и Хайяма, особенно от мудрого пьяницы Хайяма, по которому на втором году обучения написал знаменитую курсовую работу. С ней вышла незадача: Саша, перечитав поэта, сделал вывод, что Хайям – последовательный сторонник философии гедонизма, то есть пьянства, девушек и прочих неограниченных наслаждений единственной жизни. Так, собственно, в своей работе он с восторгом и написал, но был за такую точку зрения твердо раскритикован заведующим кафедрой персидского языка и литературы деликатным профессором Лазарем Пейсиковым. «Я вам поставлю „единицу“, Сташевский, – заявил Пейсиков, – если вы не отразите в курсовой классовую направленность творчества Хайяма, его огромное сочувствие к беднякам и ненависть к богатству». Саша пытался возражать, поскольку ни в одном хайямовском четверостишии особого «сочувствия к беднякам и ненависти к богатству» не обнаружил, но Пейсиков, член партбюро института, был непреклонен; Саша поспорил, поупирался, плюнул и написал, как Пейсикову было надо, получил за работу деканатскую премию и ценный опыт жизненной гибкости, то есть беспринципности.
Ах, молодость, молодость – время новостей! На третьем курсе – рановато, все понимали, что рановато, но так уж иным фартит – ему выпало первое испытание боем. Пейсиков, не иначе как с благословения таинственного ока с площади Дзержинского, доверил ему роль переводчика при делегации преподавателей Тегеранского университета, прилетевших в Москву по приглашению МГУ. Александр справился неплохо: понимал иранцев процентов на пятьдесят, процентов тридцать из того, что понимал, переводил, но при этом держался с такой непроницаемой уверенностью, что ни иранцы, ни принимавшие их советские коллеги не заметили в его работе никакого брака. Труднее всего пришлось на заключительном приеме в иранском посольстве. Его, переводчика, почетно усадили во главу большого накрытого стола – слева расположились иранцы, справа – приглашенные советские гости. На сверкающей белизне тарелки углом топорщилась визитка, из которой комсомолец Александр впервые узнал, что он «господин Сташевский» – такой непривычный титул серьезно повысил его самооценку. Неимоверная же трудность проявилась в том, что, когда лакеи в белых перчатках обнесли гостей винами и вкуснейшей едой и с утра голодный Сташевский собрался было поесть, с речью к гостям обратился посол, пришлось вилку-нож отложить и заняться, собственно, тем, для чего его призвали и возвели в звание господина. Он перевел, что смог, в том числе и провозглашенный свеженький тост за сотрудничество и дружбу, присутствующие выпили, и он глотнул шампани, но закусить уже не успел, потому что кто-то из советских тотчас поднялся с ответным словом, и Саше снова пришлось напрягать мозги. Так продолжалось все застолье, Сташевский остался голодным и на собственном опыте познал, как интересна роль переводчика в современном мире.
А еще за время учебы он разбогател на девчонок. Вместо одной умной Полохиной появились беленькая Наташа, рыженькая Света и худенькая Катя. Сам он не ухлестывал за девушками, ни времени у него не было, ни особого желания – девушки, подогреваемые вечной озабоченностью о замужестве и продолжении рода, сами бегали за ним, талантливым, честолюбивым и веселым, в курилках между собой называли его обаяшкой и жаждали его общества. Но мужчиной он стал не с ними, а с Люсей Белкиной, лыжницей, мастером спорта, выпускницей Инфизкульта, и произошло это не на постели, не в квартире и вовсе не в городе, а совершенно непредсказуемо на крутом берегу, в мокрой росной траве в трех метрах от быстро плывущей Оки. Саша и Люся познакомились в автобусе, направлявшемся в Поленово, автобус, на Сашино счастье, сломался, им пришлось добираться пешком вдоль реки, когда случились та ночь под полной луной и любовь. Люсе было двадцать восемь, ему восемнадцать, Люся ехала к мужу в поселок с полной авоськой продуктов, он – вожатым в летний пионерлагерь, с пустыми руками и вечным голодом в юном желудке. Саша и Люся разожгли живой костерок, подкормились из Люсиных запасов и, как свойственно молодым, постепенно разговорились на опасные темы. Он так хорохорился, так выдавал себя за бывалого ходока, что Люся быстро поняла: перед ней во всей красе и прелести вовсе не целованный девственник. Не воспользоваться таким подарком взрослая женщина, извините, не смогла; взяв его руку, лыжница Белкина возложила ее на свою кипевшую грудь и откинулась на спину лицом к всевидящему ночному светилу.
Оглоушенный своим мужским достижением, которое, кстати, за два часа было повторено трижды, он проводил ее почти до дома, до залаявших собак; она поклялась вернуться с одеялом, чтобы, продолжив любовь, скоротать с ним ночь и встретить луч восторженного солнца, он долго ждал ее в сырости, дрожи и надежде, но она почему-то не пришла. Никогда он ее больше не видел, но остался навечно ей благодарным за нежность и просвещение.
Уже мужчиной и капитаном команды он играл за институт в баскетбол, но, главное, так здорово стрелял в подвальном тире на Моховой, что установил рекорд МГУ, попал в справочники и стал председателем стрелковой секции института. Сташевский обучал держать мушку и поражать мишень не только студентов и студенток, но и преподавателей – однажды в подвал с мягкой нерусской улыбкой и просьбой «немножко понажимать на курок» спустился сам деликатный профессор Лазарь Пейсиков. «Нажимал» он, к удивлению Саши, очень даже неплохо, остался доволен собою и председателем стрелковой секции, что не помешало ему на очередной сессии влепить Сташевскому тройку за «недоработки в персидском языке».
«Хорошая стрельба – здорово, сын, но понадобится ли тебе это в жизни?» – спросил однажды Сашу отец; спросил и, не дождавшись внятного ответа, не стал развивать тему; ничего, кроме гордости за сына, ни папа, ни мама в ту пору не испытывали. Ничего, кроме гордости, не тешило родителей и тогда, когда сын на досаафовском аэродроме в Тушине совершил зимний прыжок с парашютом, и даже тогда, когда на военной кафедре он заполнил на себя анкету из пятидесяти вопросов. Лысый, круглый, крепкий полковник, раздав мальчикам анкеты, попросил всех отвечать предельно правдиво, потому что от этого будет зависеть их будущее. Саша так и сделал. «Каких иностранных писателей вы читаете?», «Любите ли вы американское кино?», «Кто такой Леонардо да Винчи?», «Легко ли вы находите контакт с людьми?», «Быстро ли вы реагируете на вопросы?» – спрашивала его анкета, и он отвечал ей подробно, чуть бахвалясь, ничего из многочисленных своих достоинств не умаляя. Это уж потом дружки и знакомые говорили ему, что он дурак, что в анкетах такого рода лучше привирать и прикидываться шлангом, в тот момент советчиков под рукой не наблюдалось.
Да и чего ему было бояться?! Страна под ним оттаивала, трещала как мартовский лед. Раньше всех, словно пучки травы к солнцу, к свободе полезли анекдоты, за ними потянулись мысли людей. Духи «Запахи Ильича», пудра «Прах Ильича», мыло «По ленинским местам», трехспальная кровать «Ленин с нами» – такое изумительное кощунство разве забудешь? Когда в восемьдесят втором умер Брежнев, Сашке было чуть больше двадцати. Константин Устинович Черненко запомнился не только немощью, но и тем, что при нем впервые прекратили глушить «Голос Америки»; Андропов отметился в истории облавами на опаздывающих на работу, которые, удивительным образом, не столько стращали, сколько веселили народ. Юмор и смех, как обычно, стали оружием свободы. Смеялись надо всем, но больше – над престарелыми вождями и над собственной глупостью, над собой, так бездарно долго этим вождям доверявшим. Так что, Горбачев припозднился с объявлением гласности – она уже давно, помимо него, существовала в закипающей новым энтузиазмом стране.
Эйфория перемен вдохновляла Сашу Сташевского на невероятный, нечеловеческий, непонятно пока какой, но обязательно великий подвиг во славу обновляющейся родины. Все вокруг, казалось ему, разгоряченно к этому взывало. И только один – он запомнил его навсегда – дружок его, стоматолог Андрюха Костюкевич окатил его однажды холодным душем трезвости и неверия. Он был старше Саши и был классным врачом; у него были толстые рыжеволосые пальцы, раздиравшие до боли рот пациенту, но сработанные им пломбы держались по двадцать лет. «Пока жива легавка, – сказал он однажды, держа в руке тонко жужжащее, жаждущее быть примененным жало бура, – ничего в Союзе не переменится». Саша не сразу понял, что такое «легавка», а когда понял, решил, что радикальный врач Костюкевич преувеличивает, и даже вступил с ним в спор.
Александр Сташевский с красным дипломом закончил университет. На вручении в актовом зале МГУ, когда ректор академик Садовничий на фоне тяжелых бордовых знамен пожал ему руку и что-то пробурчал о гордости за таких выпускников, отец и мать расплакались и совместно приняли валидол.
Они еще раз прибегли к валидолу, когда Саша им сообщил, что на него в ректорат пришел запрос из агентства печати «Новости»; Сташевскому предлагали работу редактора в иранском отделе редакции Ближнего и Среднего Востока АПН. «Соглашайся, сын, – сразу сказал папа. – Это очень ответственная работа, очень, ты себе даже не представляешь, насколько», – добавил папа, и Саша за многие прошедшие годы так толком и не понял, знал ли отец на самом деле, насколько ответственна та работа, или только догадывался?
…Снова всплывает в памяти вздрогнувший на столе телефон и тот роковой звонок. Он прекрасно все помнит. Стрекот пишущих машинок в комнате, гул Садовой за окном и негромкий, настойчивый голос в трубке…
К тому времени он проработал в АПН больше трех лет, стал членом Союза журналистов, постоянно писал и отсылал в Иран статьи о советско-иранских связях, но монотонное однообразие таких материалов начинало его угнетать. «Развивается и крепнет», «Проверено временем», «Рука друга» – всего три универсальных, взаимозаменяемых заголовка сочинил для себя Сташевский; на спор и на смех он мог поставить любой из них на любую статью о советско-иранском сотрудничестве и всегда попадал в десятку, однако такой смех все чаще заставлял его задумываться. Сегодня – «Развивается и крепнет», через месяц – «Проверено временем», через два – «Рука друга» и так далее, и заново бег по кругу – что, ему целую жизнь довольствоваться этой жвачкой? Он сравнивал себя с коллегами по редакции и – должно быть – нескромно, но вполне объективно приходил к выводу, что он ярче, образованней и пишет лучше остальных, ему казалось, что и начальство, в лице главреда Юрия Волкова, пестующего молодняк, не может не замечать его таланты. Высокая самооценка, молодая жажда новизны, перемен и тоска от отсутствия таких перемен – таков был в то время Сташевский. Во всем остальном он жил нормально, любил в избытке появившееся пиво, играл в большой теннис и встречался с девушками, которых после блистательного вступительного экзамена на ночной Оке стало разнообразно много, – он талантливо транжирил молодость. Новизна и перемены поджидали его, но совершенно с неожиданной стороны.
– Александр Григорьевич? – переспросила трубка. – Почему вы молчите? Здравствуйте, еще раз. С вами говорят из Комитета государственной безопасности.
– Ага, из ЦРУ, – хохотнул, наконец, Сташевский. – Я тебя вычислил, Мальцев. Слабенько выступаешь, старичок. Раньше ты был интересней.
Он добавил еще одну едкую фигуру, бросил трубку и только потом включил мозги. Что-то ему все-таки не понравилось, что-то вызвало недоумение. Голос? Интонации? Сперва был уверен, что хохмит Мальцев, давний его приятель, объявлявшийся редко, с редкими розыгрышами типа: «Горвоенкомат, капитан Козлов. Почему не являетесь по повестке?». Раньше на такие приколы Сташевский доверчиво велся, теперь его было задешево не купить, но, еще держа руку на телефонной трубке, Саша засомневался: Мальцев или не Мальцев? Но если не Мальцев, то кто? Правда, что ли, ГБ? Но с какого?
Он трижды перезвонил Мальцеву, телефон отлаялся короткими гудками.
Он проверил на глаз наличие сигарет в красно-белой пачке «Явы», аккуратно прибрал в сторонку ручки, скрепки, резинки, поднялся и, в недоумении и угрюме, зашагал в курилку, устроенную на лестничной площадке в конце замысловатого длинного коридора. В любое время рабочего дня там, не считая дам, обнаруживались двое-трое-четверо курильщиков-мужчин, знакомых из разных редакций. Так было и в этот раз. В драгоценном табачном дыму коллеги обменивались новостями, озоровали анекдотами, болтали и смеялись – разминали утренние журналистские мозги, отравленные с вечера алкоголем. Был среди них и Толя Орел, приятель Сташевского по ИСАА, изучавший в институте Индонезию и индонезийский язык. Орел был на три года старше, но уже успел жениться на верной Ольге, нажить фигуру, осанку, командный бас и произвести на свет крепыша Петю. Толик был добр, широк, обаятелен и надежен, Саша с удовольствием с ним общался, играл в шахматы, в теннис, выпивал и спорил о политике; понятно, что он подгреб именно к нему и почти шепотом сообщил ему новость. «Не обращай, старичок, живи! – среагировал Толик, и солидный его бас заворочался в курилке, точно тяжелые камни. – А лучше – сразу посылай подальше. Мудаков телефонных море развелось. Мне тоже такие звонили». У Саши, спасибо Орлу, отлегло, он вспомнил, что так, собственно, со звонившим мудаком и поступил; расслабившись, закурил и принял участие в общей реакции на анекдот про три стадии женской верности, которая кончается понятно чем.