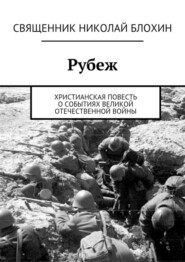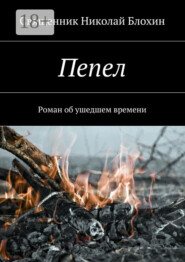По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наша жизнь в руках Божиих…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Смирение – это высшее достижение всех, что есть, вместе взятых, творческих возможностей, заложенных в нас Создателем. Смирение – это сила, не оборимая ничем. Вера, которая горы двигает, стоит на покаянии. А покаяние рождается из зернышка смирения. Разум, от гордыни просветленный, душа, наполненная жаждой очищения, все это почва, зернышко питающая…
Распластанный в плаче перед окном в Царство Небесное, он вот только сейчас почувствовал, как тает игла, вытекает из сердца.
– Царица Небесная, спаси землю Русскую!..
И он увидел, хотя глаза его были закрыты, что принят его душевный крик. И выдохнулось слезно и сокрушенно из бестелесного очищенного разума:
– СПАСИ… – огромность, многогранность, и в то же время предельная простота, единственность этого грандиозного слова, вот только сейчас осознались во всей полноте. Только этим словом молиться надо, только об этом просить.
От чего спасти? От кого спасти? От копыт коней Казы-Гиреевых?..
Давно забыт Казы-Гирей, причем здесь любая напасть земная?.. «Давно забыт?» А как это – давно? Что такое – давно, когда нет времени под лучами света из окна в Царство Небесное?
«И я сейчас в нем!! Дай его всем, всем моим подданным! Ты меня посадила домом Твоим управлять, так дай же им всем, кем я управляю, жить в том Царстве, где Ты – Царица!.. И если такова воля Сына Твоего, чтобы растоптан был дом Твой земной – Святая Русь, а жители его прекратили земную жизнь, да будет так. Но!.. СПАСИ, спаси жителей дома Твоего, вознеси их ВСЕХ в Твое Царство, всех до единого! Никто из них, и я в первую очередь, не заслужили того, но ты все равно вознеси всех! Меня оставь, ибо из всех недостойных я – самый недостойный, Царь их,.. но всех остальных – вознеси!..»
Возвращалось тело, отпускало каменное оцепенение. Тусклое пламя свечи горело перед Донской иконой.
Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский подъезжал к укрепленному телегами лагерю, когда икона крестным ходом уже входила туда. Несли ее Царь и митрополит Дионисий. Когда вслед за воеводами пошли прикладываться к ней ратники, а воеводы вышли из храма, опечалился князь, на них глядя. Тревога и уныние – вот что сквозило от их облика. Икона, крестный ход, сам Государь среди стана никак не вызывали у них душевного подъема. Один из них, старый знакомый князя, вздыхал, что плохо организованы посты дальнего дозора, что Государь обязан был послать в Новгород за подмогой, тогда хоть не такое подавляющее превосходство было б у крымцев, что и дипломатия не та, что «молись, да к берегу гребись», что «на Бога уповай, да сеять рожь не забывай…»
– Сердце Царево в руке Божией, – перебил воеводу князь Иван Михайлович.
Воевода махнул рукой и отошел.
Меж тем, Государь обходил всех воевод и говорил каждому какое-то ласковое, ободряющее слово. Подошел и к знакомому князя, тот кивал в ответ на его слова, потупив глаза.
С Царем прибыло много бояр, приказных и еще всяких и сейчас князь заметил, что среди них не просто тревога стоит, но все они на грани паники. Один почти кричал, что женщин, детей и ценности, сколько возможно, из Москвы увозить надо. Другой метался, все про какие-то укрепления говорил, что, мол, мало вокруг посадов деревянных стен поставили… Князь вгляделся еще внимательнее во все, что его окружало и увидал, что несокрушимо спокоен из всех только один человек – Царь Феодор Иоаннович, И улыбается всем все той же своей улыбкой.
Борис Годунов нервно доложил Государю, что крымцы заняли Воробьевы горы. Феодор Иоаннович среагировал так, будто ему сообщили о прилете на Воробьевы горы стаи гусей. Появился Григорий Годунов и с ужасом на лице, едва не плача, сказал князю, что ему передали, что крымцы начали наводить переправу через Москву-реку. Тут к ним подошел Государь.
– Ты чего это разнюнился, Гришенька? – ласково спросил он Годунова.
– Да делать-то чего, Государь? – вопросом на вопрос ответил тот.
– Как чего? Да вот зайди в храм, у иконы помолись. А?
Григорий Годунов только поморщился, ничего не сказав.
– Утишься, Гришенька, – еще шире улыбаясь, проговорил Феодор Иоаннович, – крымцев завтра здесь не будет. – Шутишь, Государь?
– Шутить мне не пристало.
– Тогда как же ты их прогонять будешь?
– Да где мне, куда мне, сирому, их прогонять, сила вон какая!.. Говорю ж тебе: сами уйдут.
– Государь, Да я ж Дворцовым приказом ведаю! Всеми вотчинами твоими! Прикажи хоть казну, сколько сумею, увезти!
– Сдурел ты с горя, Гришенька. А приказываю я тебе вот сей же час: иди-ка и еще раз к иконе приложись. Да помолился бы усердно. Забыл, небось, когда лоб-то перекрещивал. Завтра вам некогда будет молиться, завтра гулять будете. А я – в колокол звонить.
Когда Государь отошел, Григорий Годунов только рот открыл, чтобы что-то сказать, но князь опередил его.
– «Не прикасайтесь к помазанникам Моим!» – почти выкрикнул он. И тихо добавил: – Даже мыслью злословной. Тебе слово Царское сказано! Тебе что, мало этого?!.
Козы-Гирей был не просто доволен обстановкой и самим собой, он был очень доволен. Главные трудности позади. Вот она – беззащитная Москва за Лужниками. Главная же трудность прошедшая в том состояла, чтоб заставить своих орлов быстро мчаться к Москве, не отвлекаясь по пути на всякие там Серпуховы, Тулы, Рязани. Как можно быстрей – к Москве. Там главная добыча. За семь лет безмятежного царствования этого тихони-богомольца в Москве собрали столько богатств! Удивительно, за семь лет ни одного набега! Пока он, Козы-Гирей не утвердился в Крыму ханом. И то, что сейчас происходит, – Казы-Гирей самодовольно усмехнулся, – это не набег, это окончательный разгром Москвы и уничтожение Московской державы. Очень боялся подмоги из Новгорода, потому так спешил. Нету подмоги, свободен путь, а Новгороду – свой черед, по частям их добью…
Разбудил Козы-Гирея грохот пушечной канонады, людские вопли и ржанье коней. Мгновенно поднялся и, выскочив из шатра, наткнулся на царевича Мурат-Гирея, командующего передовым корпусом и ответственного за переправу. Мимо, не видя ни его, ни Мурат-Гирея, мчались с криками всадники.
Меж тем из черноты ночи, что царила на Лужниковском противоположном берегу, пушечный грохот становился все сильней. И явственней слышалось цоканье копыт о камни, будто тысяч сто лошадей по камням галопом скачут. И шум от скачки не меньше, чем от канонады.
«Да у них отродясь такой конницы не было, да и нет там никаких камней, земля мягкая…» – мелькнуло в ханской голове.
– Что происходит?! – хан схватил за шкирку Мурат-Гирея. И отпустил сразу, увидав вблизи его лицо. Таким он его никогда не видел. В глазах – никакой осмысленности, одна паника, еще чуть-чуть и начнется истерика.
– Наверное войско из Новгорода, – выдавил, наконец, Мурат-Гирей.
– Что значит «наверное»?! – взъярился хан. – Где царевич Нурадин?! Остановить этих!..
Но было уже видно, что остановить «этих» совершенно невозможно. Наконец, вытряс из Мурат-Гирея, что когда первая сотня плотов с диверсантами переправилась на тот берег и захватили несколько дозоров, все пленные радостно заявили, что пришло, наконец, огромное войско из Новгорода и сейчас оно будет здесь. А главные силы Новгородской рати в обход пошли, чтоб в клещи взять, и уже Можайск миновали, вот-вот здесь будут…
– Да мало ли что наплетут пленные! – взревел хан. – Где они?!.
Но ясно было, что в царящей кругом сумятице на его взрев «где они?» ответа он не получит. Да и неважно это теперь: были не только слова пленных, был возникший вдруг конский топот и пушечная каннонада из ночной тьмы. Переправившиеся диверсанты кинулись к плотам и что есть мочи погребли назад и, переправившись, с воплями, смяв обалдевших соратников, полезли по крутому берегу наверх к лошадям. Тут и на Воробьевском берегу стали слышны и топот и канонада.
Козы-Гирей знал, что самое страшное для войска не неприятель, а паника. Если она еще не расползлась, ее кое-как, саблями и плетками можно подавить. Но бывает паника запредельная, она не давится. И именно она рвалась сейчас из глаз не кого-нибудь, а его ближайшей опоры, командующего главной силой его войск. Про скачущих мимо и орущих и говорить нечего было.
«И все пушки, небось, бросили,» – пронеслась тоскливая мысль.
И мысль, надо сказать, вполне правильная. Тут вдруг бесстрашный Козы-Гирей почувствовал, что и ему становится страшно. Мурат-Гирея уже рядом не было – ускакал. И страх какой-то особый, ранее неведомый – не канонада с топотом из темноты внесла этот страх. Ночные налеты для него и его налетчиков были обычным делом и им-ли, степнякам (вся жизнь на конях), конского топота вдруг так испугаться? Да если и случался испуг от этого, он всегда пресекался, всегда можно опомниться от такого испуга. Но звук пушечного грохота и конского топота нес на себе еще нечто, словами не объяснимое. Будто ветер страшный, непонятной природы, летел на пушечном грохоте и вгонял в сердце невозможный, вон отсюда толкающий страх, от которого не опомниться, пока несется на тебя этот ветер.
Это ж надо, как перекосило физиономию Мурат-Гирея! Да он один против пятерых в бою дерется! И чем больше на него наваливается, тем он спокойнее и сосредоточеннее. Но ни разу еще до этого на него не наваливался такой ветер. Не от коней и пушек удирали его налетчики, а от невозможного прогоняющего ветра. Вскочил на коня, поднял нагайку, чтоб хлестануть его, и… замерла рука:
«А шатер ханский?! Да там же… Эх, какой там шатер…»
Хлестанул и помчался вместе со всеми и никто из скачущих рядом его не узнавал, каждый рвался сам по себе.
Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский ехал на коне вдоль Москвы-реки по Лужниковской пойме. Ехал проверять посты дозора. Взошла луна. Желтой ленточкой легла на тихую воду лунная дорожка. На душе было тихо и спокойно и совершено не думалось, что там, куда упирается лунная дорожка, на высоком берегу готовится к прыжку страшная вражья сила. Князь любил эти места. Лужниковская пойма – кормилица Москвы, но и красива необыкновенно! Справа в блеклом лунном свете стояла стена травы, до седла высотой. За Новодевичий тянулись пойменные луга, впереди, вверх по течению, за лугом – огороды и сады. На все это смотреть – не наглядеться с той стороны, с Воробьевых. Сейчас крымцы любуются… Хотя, вряд ли, они умеют любоваться только добычей, награбленным. Скоро будут любоваться.
От последней мысли руки сами собой поводья дернули, конь на дыбы встал с коротким ржаньем: «Ты что, хозяин?»
«А и действительно, чего это я?» – князь едва не выругался и слегка пришпорил коня. Сейчас будет избушка пасечника из царского приказа, лето он здесь с семьей живет.
Издалека услышал шум и возгласы. «Спать бы в это время надо.» Всполошенное семейство пасечника спешно выносило домашний скарб из избы и грузило его на телегу. Вторая телега, видимо, предназначалась для семейства. Разом вскрикнули все, когда в лунном свете возник перед ними всадник на коне.
– Это я, Трифоныч, – сказал князь. – Узнаешь?
– Ой, Господи помилуй! – пасечник перекрестился. – Ты б, князь, хоть загодя покричал. Так ведь и «кондратий» хватит! А я уж подумал – все, пропали, переправились, проклятые.
– А ты куда это собрался?