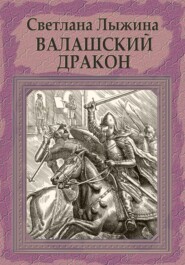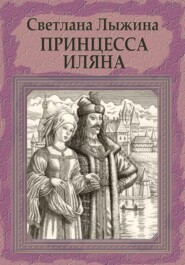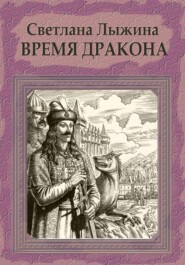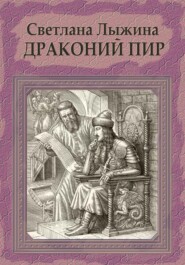По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На руинах Константинополя. Хищники и безумцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это его мы назначим?
– Да, – всё так же веселился Мурат. – Он, как оказалось, не только вино наливать умеет. Если он обыграл тебя, значит, может верно оценить противника и обдумывать ходы заранее. Этот евнух вполне годится для такой должности.
Должность предусматривала командование войсками. А султан решил назначить на неё того, кто умеет командовать лишь шахматной армией. Шехабеддин даже оружием в то время не умел пользоваться. Зачем это умение комнатному слуге? Выбор был весьма странным, хотя загадочным образом перекликался с мечтами евнуха, но мечты оставались тайной для всех.
Неудивительно, что Низамюддин-паша подозревал в словах султана шутку. Шехабеддин тоже подозревал, однако оказалось, что всё очень серьёзно. Султан велел позвать секретаря, чтобы составить письменный приказ. Евнуха, который до этого являлся рабом, освободили и назначили на должность, за исполнение которой полагалось жалованье. Часть жалованья полагалось выдать немедленно, чтобы новый чиновник приобрёл себе подобающую одежду, коня и всё, что может понадобиться в дороге, а также нанял слуг.
Когда Шехабеддин услышал сумму жалованья, то не поверил ушам. Ему как будто слышался смех работорговца Фалиха, уверенного, что евнух заслужит всё это только к старости. А впрочем… прошло десять лет. Именно о таком сроке говорил работорговец, а Шехабеддину исполнилось всего двадцать два года. «Может быть, мне ещё не поздно найти мать и сестёр? – подумал он. – Что, если Фалих всё же вспомнит? Ведь теперь ему это выгодно. И не важно, что он говорил прежде».
На этот раз Шехабеддин отправился искать посредника не в чайхане, а на рынок – в ту его часть, где продавали рабов. Там не составило труда навести справки, кто из работорговцев имеет связи с Багдадом. И вот вечером того же дня евнух, немного растерянный, но в то же время уверенный в своём праве, оказался гостем в доме работорговца – такого же, как Фалих, но не араба, а турка.
Шехабеддин рассказал этому человеку свою историю, чем немало удивил, но тут же пресёк все подозрения словами:
– Если господин сомневается, то может справиться обо мне в дворцовой канцелярии. Там скажут, кем я был и кем стал по воле моего мудрого и великодушного повелителя, да воздаст ему Аллах благом.
Шехабеддин сказал, что желает выкупить из рабства мать и сестёр или хотя бы выяснить их судьбу. Заверил, что готов возместить все расходы, так как сам, увы, не может заняться поиском. Он по долгу службы очень скоро отправится в Албанию, в город под названием Гирокастра, и будет ждать вестей там.
Выйдя на улицу после разговора, Шехабеддин чувствовал всё ту же растерянность и непонятную внутреннюю дрожь. Он как будто не верил, что всё наяву. Не верил, что его не обозвали лжецом, не обвинили в воровстве, не схватили и не потащили во дворец. Работорговец взял деньги «за розыск», выдал евнуху расписку в получении и обещал не позднее чем через четыре месяца письменно сообщить о результатах.
«Работорговец обошёлся со мной, как с человеком», – сказал себе Шехабеддин, и это было очень странно, непривычно. Однако теперь евнуху следовало беспокоиться не о том, как с ним обращаются работорговцы, а направить все усилия на то, чтобы не потерять приобретённую должность и жалованье, которое к ней прилагалось.
…Шехабеддина радовало то, что он стал свободным и богатым, но совсем не радовала новая жизнь. Евнух слишком хорошо понимал, что назначен на должность по прихоти султана, который не простит ошибок и в единый миг может отнять всё, что дал. А ведь так просто совершить ошибку, когда отправляешься в незнакомый дикий край вроде Албании.
Мурат не был подобен Искендеру, которого Шехабеддин постоянно себе представлял. Искендер не был строг с Багоем и не рассердился бы, если бы Багой по незнанию допустил промахи. С таким господином, как Искендер, евнух, желающий научиться быть человеком, чувствовал бы себя спокойно и уверенно, но, увы, Шехабеддин пока не нашёл своего Искендера. И даже не был уверен, имеет ли смысл искать.
Как бы там ни было, Шехабеддин старался привыкнуть к новому положению и, когда добрался до Албании, уже научился вести себя если не как военачальник, то как вельможа. Это действительно было похоже на перемещение шахматных фигур по доске – следовало отдавать отдельным людям отдельные повеления, но всё время видеть перед собой конечную цель.
Начальнику недавно завоёванных земель следовало добиться там соблюдения турецких законов, но в то же время не вызвать слишком сильного возмущения местных жителей, которое означало бы бунт. И именно об этом думал Шехабеддин, когда в сопровождении секретаря, а также слуг и охраны ехал по горной дороге по направлению к Гирокастре, где находился центр завоёванных албанских земель, то есть новообразованной турецкой области.
И вот, двигаясь по дороге к Гирокастре, Шехабеддин ещё издали увидел, что по обочине шагает некий хорошо одетый человек, препоясанный мечом и держащий в руке копьё, который ведёт в поводу коня. Человек был явно из местных, поэтому евнух, помня о том, что должен завоевать расположение албанского населения, решил показать себя начальником, который внимателен к нуждам людей.
Остановившись возле албанца, который тоже почтительно остановился, Шехабеддин велел секретарю, знавшему албанский язык, спросить, почему надо вести коня в поводу, если можно ехать верхом.
В ответ прозвучало, что конь захромал, и если на нём ехать, то хромает очень сильно, а если вести в поводу, то хромоты почти нет. Албанец надеялся к вечеру довести коня до города, то есть до Гирокастры, а там уже заняться лечением животного.
Ответ прозвучал так, как если бы дело не стоило беспокойства и не требовало сторонней помощи, но Шехабеддин, раз уж остановился ради проявления заботы, решил всё-таки спросить, не нужно ли албанцу чего-нибудь.
Секретарь перевёл вопрос, а когда албанец стал отвечать, в речи вдруг промелькнуло знакомое слово «санджакбей». Именно так по-турецки называлась должность Шехабеддина – начальника области, то есть санджака, – а албанцы, судя по всему, не стали придумывать ей своего названия. Затем прозвучало ещё одно турецкое слово «тимарлы», которым обозначался владелец большого земельного надела, обязанный нести военную службу и подчиняться санджакбею.
По словам секретаря, единственная просьба албанца заключалась в том, чтобы «любезный господин», когда доберётся до Гирокастры, передал «санджакбею», что «тимарлы Заганос» не может предстать перед ним сегодня днём по серьёзной причине, но предстанет вечером и заранее просит прощения за опоздание.
Секретарь перевёл это улыбаясь и тихо заметил:
– Албанский дикарь не знает, что любезный господин – это и есть тот, кому предназначены извинения.
Веселья добавляла и серьёзность Заганоса, хотя любой бы на его месте был серьёзен, ведь на встречи с начальником лучше не опаздывать.
По случаю прибытия санджакбея всем землевладельцам, нёсшим воинскую повинность, приказали к полудню собраться в Гирокастре на смотр. До города, если ехать верхом, оставалось полтора часа пути, и Шехабеддин как раз успевал, а вот Заганос, чей конь захромал в дороге, не успевал никак.
Сознавая это, Шехабеддин развеселился ещё больше своего секретаря и решил поддержать шутку, предложив Заганосу:
– Если хочешь успеть, то возьми коня у одного из моих слуг. Ты поедешь со мной, мой слуга останется с твоим конём и отведёт его в город на мой двор, а вечером придёшь ко мне, и мы снова проведём обмен конями.
Секретарь перевёл, а албанец вдруг произнёс по-турецки, хоть и не очень чисто:
– Благодарю, любезный господин. Но если оставишь на дороге слугу, оставь с ним также кого-нибудь из охраны. Так будет спокойнее и тебе, и мне. Тебе – за слугу, а мне – за коня.
Евнуху показалось, что шутка не удалась, ведь если албанец понимал по-турецки, то мог понять и тихое замечание секретаря о том, что «албанский дикарь» торопится на встречу с тем, с кем уже встретился. Однако Заганос продолжал вести себя свободно, а не так, как полагалось бы в присутствии санджакбея. Даже не постеснялся дать наказ слуге Шехабеддина:
– Веди коня медленно. А если тот станет хромать, дай отдохнуть четверть часа.
Вскоре выяснилось, что албанец понимал только те турецкие фразы, которые сказаны чётко и не спеша, а если говорить тихо и быстро, не понимал ничего. И всё же для местного жителя он владел турецкой речью на удивление хорошо.
– Откуда ты знаешь турецкий язык? – спросил Шехабеддин, который попросил нового знакомого, чтобы на протяжении всего пути ехал рядом.
Тот почему-то смутился:
– От пленных турок. Мой отец не раз участвовал в войнах с Турцией и захватил нескольких пленников. Они были незнатные и не могли заплатить за себя выкуп, поэтому мой отец не стал отпускать их на свободу, а надел на них железо и заставил работать в нашей усадьбе. Рыть канавы, строить ограды, валить лес. Отец велел мне не приближаться к пленникам, но в детстве я был любопытен, мне были интересны эти люди, которые пришли издалека и видели большой мир, которого я не видел. Я пытался расспрашивать их о том, что они видели, и так постепенно выучил их язык.
Шехабеддин слушал спокойно, но Заганос, видя перед собой знатного господина из турецкой столицы, конечно, понимал, как звучит рассказ о пленниках, поэтому, будто оправдываясь, добавил:
– Когда мой отец умер, я в тот же день отпустил их всех на свободу, дал немного денег, новую одежду и запас еды, чтобы все добрались до родных мест. Они поблагодарили и ушли.
– А как давно ты принял ислам? – продолжал спрашивать Шехабеддин, поскольку на голове собеседника был тюрбан – головной убор правоверного.
– Не так давно, – коротко ответил Заганос, который не понимал, зачем его расспрашивают, но благодарность за услугу не позволяла совсем отказаться отвечать.
– Я рад встретить в этой стране доброго человека и к тому же правоверного, с которым могу говорить без толмача. – Евнух с нарочитой приветливостью улыбнулся. – Мне рассказывали, что в здешних краях чужестранцу непросто завести дружбу с кем-нибудь. И что здесь хорошо принимают чужаков только первые три дня, пока считают гостями, а после – гонят прочь.
Заганос тоже улыбнулся, весело и открыто:
– Ты можешь считать другом меня. Ты оказал мне услугу, хотя мог бы не оказывать. Теперь я – твой должник.
– Разве должник и друг – это одно и то же? – с притворным удивлением спросил Шехабеддин.
– Если должник хочет вернуть свой долг, то да, он друг, – ответил Заганос. – А если должник не хочет возвращать долг и стремится избежать этого, то такой должник – враг.
– Интересное суждение, – сказал евнух. – Я запомню его. Но подожди называть меня другом, ведь ты слишком мало обо мне знаешь.
Когда путешественники прибыли в Гирокастру, а точнее – в крепость на вершине горы, Заганосу стало наконец понятно, что последние полтора часа он беседовал с санджакбеем, но Шехабеддину при взгляде на изумлённое лицо албанца почему-то было уже не смешно. Евнух досадовал, что дорожная беседа закончилась, и даже подумал, что следовало прекратить шутку ещё на въезде в Гирокастру и назвать себя.
Смотр, состоявшийся на огромном внутреннем дворе крепости, закончился, все разъехались, а евнух отправился в свой дом в городе. Но никак не мог выкинуть из головы этого простодушного албанца Заганоса, с которым было так приятно говорить, потому что этот человек не прятался за словами, а был открыт. Не то что его собеседник, который нарочно скрыл своё имя и полагал, что это забавно.
Шехабеддину даже захотелось извиниться, но он подумал, что это неправильно. Вышестоящий не должен извиняться перед нижестоящим. «Проклятая должность», – думал евнух, расхаживая по комнатам дома, как вдруг явился слуга и сообщил, что «тимарлы Заганос» просит, чтобы санджакбей принял его.
В комнате для приёма гостей, где состоялась встреча, албанец вёл себя уже не так открыто и свободно, как несколько часов назад, на дороге. Появившись в дверях, Заганос вёл себя осторожно и смотрел не на собеседника, а в сторону:
– Прошу прощения, господин. Я явился, чтобы снова обменяться конями, как ты обещал. Я пошёл на конюшню, но твои слуги не хотят совершать обмен. Сказали, что нужно твоё разрешение.