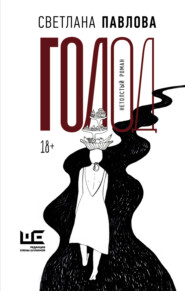По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слушай, а давай проведем випассану?
– Ты сдурела, что ли? Нас же православные родители посадят за оскорбление чувств верующих. Или там, не знаю, экстремизм.
– Да при чем тут верующие? Мы просто предложим им всем помолчать денек. С утра и до обеда.
– А почему випассана-то? Почему не просто молчанка? Типа ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, все такое.
– Ой, Ви, ну ты чего как из деревни? Потому же, почему уборщица называется специалистом по клинингу, а секс без обязательств – friends with benefits.
– Ну допустим. Детям-то это зачем?
– Ты мемаешь, да? Дети любят хавать на дармовщину. Сделаем призы. Типа… отряд, который справился с молчанием лучше всех, получает… м-м-м… ящик мороженого.
– Ага. Ты бы сама заткнулась на день за мороженое?
– Хуёженое, – передразнила Люся в своей любимой манере.
Обиделась, и это понятно. Вопрос бил не в бровь, а в глаз. Заткнуться для Люси было чем-то недосягаемым. Слишком много событий происходило вокруг и внутри этой женщины, и событиями этими Люся никак не могла не делиться. Поэтому ее выгнали с ретрита в Подмосковье, куда она протащила телефон и, заскучав в первый же вечер, решила обзвонить всех подружек. Со второго – под Екатом – за то, что решила писать дневник. А третий, в Грузии, так и не начался: оказавшись на святой земле, наполнению духовному Люся предпочла наполнение гастрономическое. (Если бы дамы из соцопеки, у которых мы ходили клянчить повышенную матпомощь, знали, куда уходят семестровые выплаты, если бы они только знали…)
Видимо, сделать випассану в лагере для нее было шансом, как это модно говорить, закрыть гештальт. Модно вообще много чего говорить: уметь в медитацию, быть не в ресурсе, услышать себя, чтобы откликалось, гиперкомпенсировать. Люська этими словечкамиоперировала мастерски – тому ее научили сотни марафонов, где дышат маткой, выпускают негатив и впускают в себя внутреннюю богиню (кажется, в таком порядке). В мире цифрового буддизма, астрологии, натальных карт и прочей эзотерики она была своей, а потому довольно легко убедила директрису Кубышку на эксперимент. Воспиталка Гильза, правда, выразила сомнения: отрекомендовавшись человеком предметным, с тремя высшими образованиями и бесчисленными курсами повышения квалификации («у меня 62 диплома!»), она долго изводила нас вопросами о преследуемых целях мероприятия. В итоге осторожно согласилась. Сказала: давайте попробуем, только без глупостей. Сама-то небось подумала: «Господи помилуй, неужели полдня хоть поживем как люди? Молодцы, девчонки, молодцы».
Детям все было объявлено на дискотеке. Так и сказали: завтра практикуем випассану – особую практику молчания – с утра и до обеда. Охотников фрондировать Люсину идею не нашлось – видимо, сделала свое награда в виде просмотра «Евротура» и лишнего часа купания. Пока Люська все это восторженно рассказывала в микрофон, я смотрела на нее и все пыталась заново ее полюбить. Это было непросто. Зато было так просто в первый раз.
Люся
Ладно, Люську в свое время я тоже сталкерила. Куда более обстоятельно, чем Антона: где-то полгода или около того. Так мне понравилось ее нежное ФИО среди записавшихся на день открытых дверей. Рядом со мной примостилось вынужденно, ввиду алфавитного порядка. Людмила Львовна Лаврецкая. Эл-эл-эл. Отмотала стену «ВКонтакте» до самого донышка. Все прознала про музыку для себя и музыку для окружающих. И нелепый гэтсбинг: «Ребята, есть билет в кино сегодня, кто со мной?», а перед этим – хромые стишочки о мальчике и черно-белый портрет с декольте, вырез до прорези. Когда крыша моя совсем уехала на почве невроза от поступления и экстернатского одиночества, я Люсины фотографии стала сохранять в отдельную папочку. Так через три месяца воздыханий в метавселенной мои чувства к Людмиле стали весить под три гигабайта. А еще через три я снова увидела ее фамилию аккурат над своей, уже в списках поступивших. У нас даже было одинаковое количество баллов – 287. Только Люся уступила мне в литературе, а я ей в английском.
По невероятному совпадению, какие бывают разве что в дурацких киносценариях, нас заселили в одно общежитие. Только вот комнаты достались разные. Это не особо влияло: Люся без конца бегала в нашу 403-ю, выглядевшую на фоне ее серпентария в 515-й прямо-таки эдемом. Сначала робко стучалась и аккуратно спрашивала, можно ли войти. Потом – почти и не выходила. Так мы приклеились друг к другу. Насмерть, страшным кармическим клеем. Пили кофе из автомата, чью мерзость не могли смягчить ни сахар, ни молоко, тратили стипендию на «Жан-Жак» и дешевенькие черные кофточки из H&M. Давали друг другу списывать, щедро и без зазнайства: я – аудирование, которое у Люськи неважно шло, она мне – грамматику (убереги господи от использования партисип пассе, сколько лет прошло, а все никак не запомню). Мы хихикали над мажорками в лабутенах, говорили на тарабарщине, называли все уменьшительно-ласкательными («выпить кофечко», «сходить в гостички», «поставь скобочку»). Мы были как два куска пазла, как розетка и штепсель, как ключ и скважина, как болячка и пластырь, как «Абрау-Дюрсо» и болезная голова.
Однажды морозным вечером в длиннющей очереди в Большой театр, куда бегали смотреть балет – то есть не балет, конечно, а сверкающее тело огромной люстры и кусочек спектакля, доступный нищим с проходками за 150 рублей, – мы поклялись друг другу, что у нас все будет по-другому. То есть не так, как у наших родителей. Ни блеклого брака, ни чувств по принуждению, ни кабалы, ни пульта от телика в замызганном пакете. Наивные, злые, высокомерные козявки, мы вправду верили, что сможем сломать устоявшийся за века ход вещей. Но ход не ломался.
Проблема нашей личной жизни заключалась в некоторых неразрешимых противоречиях. Так, например, у Люськи было чайлдфри головного мозга, необузданное желание сидеть на десяти стульях (читай: флиртовать со всеми подряд) и при этом хорошо выйти замуж, чтобы главной заботой жизни стали фамильные вышивки на сатиновом постельном белье и поступление дочери в балетную академию Агриппины Яковлевны Вагановой. Мне же хотелось совсем другого – грязного хиппи без аккаунта в соцсети, который бы вез меня на мопеде в закат, а я бы обнимала его одной рукой, второй держала бы бокал портвейна и визжала от распирающей эйфории. По иронии судьбы в отношениях я всегда была с людьми иного толка – душными майонезниками, один другого майонезнее. Эти попытки цепляться за лоснящихся благополучием людей я объясняю проделками генетической памяти и страхом уходящей далеко в глубь женской линии традиции связать жизнь с нищим алкоголиком, как это сделали все, кроме мамы, – сестра, тетя, бабушка, пра-, прапра-и так далее. Мажор-пикапер Вася, оценивающий женщин по десятибалльной системе. Стоматолог Андрей Викторович, чуть не вставивший мне белоснежные унитазные зубы, как у себя самого. Единственный с налетом творческой богемы – креатор Николай. Список короткий, но такой скучный, что и продолжать не хочется.
Люська мне все время говорила: «Ну и чего ты ноешь? Просто бери от жизни все». Я ее не осуждала. Знаете, есть два типа людей: одни едят сначала невкусное, а потом вкусное, а другие наоборот. Люся была из последних. Женщина-праздник, рожденная, чтобы носить сверкающие платья, получать норму белков-жиров-углеводов из игристого алкоголя и, запрокинув голову, на всю улицу хохотать. Почему-то три года подряд она не могла отшить Гошана – молчаливого, долговязого, будто прозрачного и чуточку женоподобного. Он запал на Люську еще на посвяте, к этому многие отнеслись с пониманием – так остроумно и изящно она выполнила задание начертать на асфальте фамилию декана собственной мочой. «Ой, ребят, нассать в бутылку – это семи пядей быть не надо», – Люська смеялась, а Гошан смотрел завороженно. С таким же лицом он занимал ей очередь в буфете, таскал продукты в общежитие и строгал рефераты по философии, тем самым сделав ее лучшей по предмету на курсе. Гошан ей, конечно, совсем не подходил. Это особенно чувствовалось, когда он исподлобья посматривал на нее после каждой своей шуточки и кивал придурком, предвосхищая любой ее вопрос. Но Люся позволяла ему находиться в своей компании. К тому же ей было больше не с кем ругаться в конце сложного дня. Вот она и ругала Гошана. «Ну что ты вообще можешь мне предложить? Ты нищий! Я нищая! Мы нищие крысы! И будем всю жизнь влачить жалкое существование!» – орала Люська на весь коридор, показывая драный шнур от компьютера, которому Гошан не мог ничего возразить. Я говорила Люсе: «Ты б пожалела пацана, он же в тебя влюбился». Она только отмахивалась, говорила: «Да у него просто ПЗР (расшифровку общажной аббревиатуры – пизда затмила разум – я выучила лишь к четвертому курсу).
Когда Люся окончательно превратилась в женщину типа «я так больше не могу», Гошан пошел работать грузчиком в «Перекресток» у нашей общаги. Спустя два месяца он вылетел с первых строчек рейтинга до позорных середняков. Заметно скромнее стали и Люсины успехи в области философии. Зато Гошан подкачался, стал, что называется, парнем при бабле и купил Люсе новые туфли. Люся, не чуравшаяся материализации чувств, этот дауншифтинг поощряла – за неимением альтернатив. Как и многим другим женщинам, терять поклонников ей не хотелось.
Тогда она согласилась: «Ладно, иногда я буду твоей девушкой». В Люсином понимании главным было слово «иногда», однако Гошан услышал все что угодно, кроме него. Так Люся стала ночевать в комнате Гошана – иногда. Потом она вбегала ко мне в три утра и начинала обстоятельно пересказывать, как что было и кто что при этом говорил. А ты че, а он че, а я такая, а он такой. Время от времени у нее случались ипохондрические истерики: Люся, то и дело подозревая разнообразные дремавшие в теле заболевания и нежелательную беременность, не могла остановить воображение, рисовавшее ей картины сифилиса, ВИЧа, гонореи, всех ЗППП мира. Из-за этого мы часто ходили к гинекологу и фантазировали, как назовем их с Гошаном детей. Обычно спустя неделю после этого у Люськи начинались месячные и никаких инфекций не обнаруживалось. Их вялотекущее пунктирное нечто, казалось, вот-вот обретет четкий контур и проделает путь с остановками во всем известных заведениях: ЗАГС – IKEA – «Сбербанк», программа льготной ипотеки молодым семьям – роддом – квартира любовницы и так далее. Так все, наверное, и было бы, не посягни однажды Люська на святое. То есть на мое.
Ну, как мое? Я его застолбила сразу, заранее, после некоторой сторисной прелюдии в виде огонечков и пары остроумных панчей в чате. К тому моменту мы с ним несколько раз погуляли за ручку, и я, выдержав для порядка пару свиданий, позволила себя поцеловать. После чего мы завалились к нему домой в шесть утра с хорошо угадывающимся силуэтом бутылки коньяка в кармане моего плаща и встретили на пороге его маму, уходившую в церковь. Потом я заперлась в ванной, где меня долго и страшно выворачивало, а его мама робко стучала и говорила что-то про возможное опоздание на исповедь.
Угорали мы с ним довольно страшно и весело, а Люська из-за этого подозрительно нехорошо вздыхала. Что-то скрывалось за ее участливыми расспросами о моем наклевывающемся романе, думала я, и думала, как оказалось, не зря. На каком-то общажном сборе она к нему аккуратненько подкралась, примостилась рядышком будто случайно. Знаете этот момент на вечеринке, когда ты разговариваешь с кем-то абсолютно тебе неинтересным и краем уха слышишь, что интересное на самом деле не здесь, а совсем в другом углу комнаты, но уйти не можешь – не обрывать же визави на середине слова. Так и стоишь как дура, говоря одно, слушая другое и прикидывая, как бы поскорее слиться. Вот так со мной в ту ночь и было. Только слиться, дабы предотвратить катастрофу, я так и не успела. Эти двое ушли в неизвестном (еще как известном) мне направлении.
Надо сказать, в нашей тогдашней компании между мальчиками и девочками было не принято подтверждать статус и прояснять качество связей, будто мы на Вудстоке. Но не были мы ни на каком Вудстоке, мы были в Москве, а в Москве так не решаются вопросы, это, в конце концов, не по-пацански, думала я. Я еще много чего думала. Что Люся – сучара, дура, идиотка, эгоистка, попросту – мразь. Что я имею право топать ногами и требовать оставить мое в покое. Потом была ссора, в которой мне много за что предъявили: купила такое же платье, строила глазки Гошану, зажала какие-то шпоры.
Мы не общались целую вечность – кажется, семестра полтора или около. За это время у Люси было три пересдачи по аудированию, и однажды она дошла до комиссии. Я очень переживала за нее и хотела помочь. А еще я очень хотела, чтобы ее отчислили. Чтобы на финальной пересдаче ее раздавили, уничтожили. Чтобы завкафедрой Людов (прозванный, конечно же, Лютым) попросил ее, как он всегда поступал с неудачниками, проспрягать глагол ?tre, а она от волнения не смогла бы и этого. Чтобы ей сказали, что она разочарование курса и педагогическое фиаско. Чтобы она унижалась перед комиссией и вымаливала еще один шанс. Чтобы после она плакала, размазывая по своей глупой роже зеленые сопли. Чтобы ей пришлось съехать с общаги. Чтобы она собирала свои монатки, а все бы смотрели сочувственно и предлагали бы помощь, а сами думали бы: «Слава богу, не я». Чтобы она умотала, к чертовой матери, в Рыбинск. То есть не к чертовой, к своей – на сытные харчи, и стала наконец толстой, безразмерной. Чтобы вышла замуж за мента и родила от него, как и полагается в таких ситуациях, ровно через полгода. Кажется, такая сильная ненависть бывает лишь к самым любимым.
Люську не отчислили. Это было неудивительно: в мирное время мы хорошо учились, ноздря в ноздрю, но она все-таки чуточку лучше. Выезжала на харизме. К тому же ей не было равных в вопросе изобретения отмазок и эффективно работающего вранья: Люськины невестки и троюродные племянники то и дело помирали перед зачетами, а потому ну никак не давали ей подготовиться на 100 баллов. Но вы уж поставьте, пожалуйста. Ладно, Лаврецкая, в последний раз. Имена родственников то и дело повторялись, что свидетельствовало о суперспособности Люсиных членов семьи к воскрешению – способности, не вызывавшей тем не менее не единого сомнения. Ей просто нельзя было не верить на слово, просто нельзя.
Я тоже не отставала – училась пуще прежнего. Увы, не для себя, а ради некоего вымышленного соревнования. Моей главной мотивацией того времени была мотивация «назло», и она меня не подводила. Никогда прежде мой рейтинг не достигал отметки 98, никогда в зачетке не было так тесно буковкам А. Но я знала, что этим искусственным пятеркам грош цена.
Я часто наблюдала за Люсей через стекло лингафонного кабинета, услужливо непрозрачного с внешней стороны. Огромные наушники сдавливали ее маленькую голову и категорически ей не шли. Я видела, как она страдает: нажимает по сорок раз на кнопку повтора, вслушивается. Как карандаш в ее руке не поспевает за болтовней диктора. Как она от злости швыряет в стену этот самый карандаш. Мне очень хотелось зайти внутрь, но я не заходила. Кроме того, были еще встречи в «Переке» у нас на районе. Мне было вдвойне неловко, когда мы сталкивались тележками возле товаров по акции: во-первых, от нашего случайного рандеву, во-вторых, потому что покупать по акции я в принципе стыдилась.
Иногда я рассматривала ее аватарку, на которой стояла редкой отвратительности фотография. Люська на ней была ненастоящая, чужая, не моя. Скобки рыжих бровей – густых и буйных в жизни – вскинуты презрительно. Прямая линия волос – обычно не знавших расчески, неукротимых, как и она сама, – падает на дофантазированные фотошопом ключицы. Лоб вылизан. Ни морщинки мимики, ни созвездий прыщиков от уничтоженной по грусти коробки конфет. Скульптурный изгиб шеи, кожа – холодный фарфор, на бисер веснушек ни намека, только румянец искусственный. Самая жуть – это, конечно, глаза. Взгляд злой, надменный, маринующий в ожидании. Все как у ее любимых светских див. Спасибо, носик хоть оставила, вздернутый, капризный. В нем вся она, Люся, не картонная, не сделанная картинка. Такой скандал из-за нее мне как-то закатила, недосчитавшись лайка. Истеричный голосок вспыхивал в трубке, а я слушала молча и представляла, как вечный спутник Люськиного гнева – красноватое рваное облако – опускается с лица на грудь.
Вообще я думала, такое бывает только в сериалах на канале «Россия-1». В том смысле, что подобных поступков просто не существовало в моей системе координат, где все было покрашено в черное и белое и поделено на простые категории – «хорошо» и «плохо», других не было. Поэтому я совсем поехала кукухой и перестала спать. Приложение для медитации и счет баранов не помогали: на 7386-м обычно звенел будильник.
С уходом Люси из моей жизни исчез не только сон, а также спонтанность, понимание с полуслова, ощущение partner in crime. Нечего стало делать вечерами пятниц и суббот, не с кем стало делить один на двоих капучино, незачем спорить, на каком молоке он будет (я топила за ЗОЖ и всегда брала соевое, она – простое, понятное, жирностью 3,2 %). Не с кем стало играть в точки на военной кафедре, куда наши девочки шли по понятным причинам факультетского гендерного перевеса. Военку у нас было принято называть войной. Так и говорили: «А война завтра будет? Ты на войну идешь?»
Заткнуть образовавшуюся дыру я пыталась разными способами. Сначала, как велят блогеры, собой. Пошла на йогу, к психологу и записалась на третий, совершенно ненужный мне, греческий язык. С йогой не сложилось, когда в конце первого занятия тренер предложила сесть к соседу на коврик и в течение минуты обсуждать все новое, что мы узнали за сегодняшний день. Психолог с изысканной фамилией Альпиди продержался подольше – аж три недели смаковал мои детские травмы. Но в разговоре про невесть как всплывшего котика Плюма, погибшего ужасно глупой и обидной смертью (оставленный зачем-то после операции на балконе и не отошедший от наркоза бедняга упал с пятого этажа), терапевт записал что-то в свой блокнотик и сказал: «Понятно-понятно, Плюм сделал плюх». С греческим пришлось расстаться после знакомства с расписанием: пары по третьему языку нам ставили в немыслимые для февраля 7:30 утра. Так мои познания и ограничились курортными словами «калимэра» и «малака» (последнее, кажется, не в полной мере печатно).
Безуспешно попытав счастье в дружбе с собой, я решила найти альтернативу Люське, что, конечно, было затеей, в зародыше обреченной на провал. Пару раз я сходила выпить кофе с Камиллой из нашей французской группы – девочкой с мощным кавказским бэкграундом, которую отвозил «в школу» охранник. Провожал ее до входа, встречал, сажал в машину и ни при каких обстоятельствах ее не касался. Даже когда однажды зимой Камилла недостаточно крепко всадила шпильки своих лабутенов в корку крылечной наледи и, глупо взмахнув руками, приземлилась на едва прикрытый совсем не ханжеской мини-юбкой зад, он не подал ей руки. И подумать страшно, что бы с ним сделали, тронь он глубоко династическую барышню хоть пальцем. Камилла была невозможно, непростительно красивой и ежедневно появлялась в институте такой, словно после пробуждения ходила на массаж, укладку и макияж (не исключаю, что так оно и было). Как-то раз она призналась, что пошла в магистратуру, потому что институт – единственное место, куда отец отпускал ее без сопровождения братьев и нелюбимого жениха. Потом она рассказала, что иногда ей удается уговорить охранника соврать отцу о пробках, чтобы хотя бы на тридцать минут встретиться с подружками в «Кофемании». Что она боится маячивших впереди госов не из-за самих госов, а из-за того, что с окончанием университета исчезнет возможность хотя бы изредка покидать отчий дом. Что следующая остановка после дома отчего – дом мужний, и так далее, и так далее. «А может, аспирантура или соискательство?» – пошутила я, но шутка не встретила понимания. Камилла просто не знала, что это, и потому лишь подозрительно прищурилась. Она так же щурилась на словах «стипендия», «общежитие», «социальная карта», а однажды попросила меня сфотографировать метро. Это было даже интересно какое-то время. Особенно под Новый год, когда Камилла подарила мне сертификат на несметные десять тысяч рублей в какой-то буржуазный магазин ароматических свечей. Я почти плакала, осознавая, что трачу четыре своих репетиторских гонорара на всего-навсего ароматизированный воск в красивой эмалированной баночке. Баночка эта стояла в нашей комнате на правах музейной редкости, зажигалась только по торжественным поводам из соображений экономии. Кажется, ей даже удалось пережить нашу с Камиллой странную дружбу, довольно быстро выдохшуюся за отсутствием общих тем.
Еще был шанс у рано женившегося и оттого рано повзрослевшего одногруппника Бори, который теперь подсаживался ко мне на лекциях и придушенно хихикал своим же армейским шуткам, половину слов из которых я не могла разобрать, отчего все время чувствовала себя виноватой. Боря забавлял всех сам по себе – наличием в двадцать один год тещи и совсем не зумерским увлечением рыбалкой. Случайно сделав матерью нашу одногруппницу Лялю, которой не оставалось ничего, кроме как бросить штудии и уйти в академ, Боря посещал пары с особым рвением, будто за них обоих, и являл собой из-за этого тот надоедливый тип людей, после общения с которыми хотелось облегченно вздохнуть.
В порыве отчаяния я вспомнила даже одноклассницу Леру, с которой мы водились когда-то в школе. Сошлись мы с Лерой на почве того, что почему-то единственные из класса палились на подлоге домашек. Сначала изошница Марья Сергеевна не хотела принимать наши работы, в которых нет-нет да проскальзывали четкие взрослые линии рук наших мам. А прежде ходившие на одну работу папы в еще безынтернетные и бескомпьютерные времена скачивали нам, видимо помогая друг другу, одни и те же сочинения, после которых неизменно звучал вопрос учительницы: «А оценку мне вам тоже на двоих ставить?»
Как-то, сидя в печальном пустом автобусе воскресным вечером, я ответила на ее сторик и позвала на кофе. Зря. При ближайшем рассмотрении настоящая версия Леры оказалась куда бледнее виртуальной. Математически одаренная, непосредственная хохотушка в школе, во взрослой модификации она будто напрочь утратила свой внутренний запал. Лера не смотрела фильмов и не читала книг, не имела мнений, не любила гулять, сплетничать и спорить. Скукотища.
Не найдя достойную эрзац-версию подруги, я и опустилась на дно, скачав «тиндер». Про «тиндер» даже шутить не буду, все и так уже про него понятно. Скажу главное: мое трехнедельное избирательное свайпание увенчалось свиданием с Вадиком. «Стилист, москвич, 30+ стран, люблю духовное саморазвитие и культурное обогащение, творческий, квартира своя». Изучив этот список добродетелей, я подумала: «Офигеть, так можно писать на полном серьезе?» (Оказалось, что можно.) Рука уже даже дернулась отправить Люсе: она бы такое описалово наверняка заценила.
В общем, я согласилась на встречу. В противоположность предыдущим своим свиданиям, когда явки назначались в статусных культурных заведениях, я, памятуя о том, как на опере Гергиева мой желудок урчал громче оркестра, предложила Вадику самое искреннее, чего хотела в тот момент: «Давай просто где-то пожрем?» Вот так, без малейшего желания понравиться. Он охотно поддержал затею. Я подумала тогда: ну, может, хоть волосы бесплатно покрасит. Хочешь поменять жизнь, так сказать, поменяй прическу. Он и поменял. Хорошо, кстати, поменял, прямо на дому. Усадил в кресло, жестом фокусника раскинул опавшую с шелестящим выдохом парикмахерскую мантию и сказал тоном конферансье, гордо и явно не впервые: «Добро пожаловать в салон Вадима Борченкова». В тот вечер я вышла из его квартиры с новым цветом волос, первыми предвестниками кандидоза и ясным знанием: «Теперь у меня есть парень». Волнительных ощущений я по этому поводу не испытала. Ну разве что зуд в известной области.
Надо отдать ему должное, в освободившийся после потери Люськи паз моей и без того шаткой жизненной конструкции Вадик вошел как влитой. Я, может быть, даже научилась бы снова полностью функционировать и зажила бы нормальной жизнью, не случись как-то раз общажная тусовочка по случаю конца лета, возвращения из отчего дома и начала учебного года. Мы были довольно пьяны к тому моменту, как она подошла и сказала что-то в духе: «Ну, может, хватит уже?» Я сухо кивнула, мол, да, хватит. Мы обнялись и синхронно разрыдались. Наверное, если бы существовал чемпионат по самому ванильному перемирию, нам дали бы грамоту первой степени.
На следующий день наступила осень, с ней – трезвость. Они в совокупности выявили проблему. Да, я простила. Но расщелина недоверия осталась. Из нее посвистывало и поддувало холодом. Новая страница нашей дружбы все не писалась – она, как лежащая под копиркой, впитывала и впитывала отпечатки предыдущей. Мне казалось, что Люська снова, вся такая сверкающая, прямо в уличных туфлях зайдет в мою стерильно прибранную жизнь, натопчет, возьмет, что нужно, и испарится. Поэтому я и не возражала против «Чайки». Я почему-то очень надеялась, что эта поездка поможет склеить то хрупкое, что осталось между нами. Что весь анамнез затеряется в шелухе памяти и я перестану ее ненавидеть, завидовать легкости нрава и раздражаться на постоянную готовность кокетничать со всеми подряд. Что любой новый страх перестанет по инерции протаскивать меня по всем колдобинам нашей сложной истории.
Но у меня не очень получалось. Ситуация особенно усугублялась тем, что в какой-то момент мне померещилась химия, якобы возникшая между ней и Антоном. Не веря голосу здравого смысла, я слушала голос домыслов. А ему, голосу домыслов, ой как не нравилось, когда Антон как бы впроброс говорил: «Веселая у тебя подруга», – или когда Люся пискляво, с интонированием тянула при встрече: «За-а-а-ай…» Я чувствовала уколы ревности всякий раз, когда он даже просто смотрел на нее, а наблюдение за их хихиканием в курилке рождало в области груди назойливую тревогу.
Короче, в день, когда Люся предложила випассану, я решила пресечь рвущую душу рефлексию. Прямо на собрании, где обсуждались правила завтрашнего молчания. Именно там я и придумала подсмотреть, не с Люсей ли Антон так увлеченно весь вечер переписывается. Я встала за ним на расстоянии полуметра. И ничего, конечно же, не увидела. А потом изобрела такой финт – навести на его телефон камеру и увеличить зум до х5. Стыдно, конечно, но что поделать. И вот стою я в беседке с телефоном, якобы фоткаю. Руки трясутся, предельное палево. Приближаю. И вижу: действительно переписывается. Только не с Люськой. А с кем-то, кто записан у него в телефоне словом ЖЕНА.
Увиденное здорово выбило меня из колеи. И это даже несмотря на тот факт, что мы, получается, были в одинаковом положении: оба несвободны. И потому в тот вечер ни в какую «Акварель» я не пошла.
То есть пошла, конечно, в надежде, что будет свидание. Но он в тот вечер был особенно хмур и вообще не обращал на меня внимания. Тогда, всласть порыдав на море, я пошла спать. Светлячком в непроглядной тьме мерцала одна лишь завтрашняя тишина.
Жена
Эту коварную поступь не спутаешь ни с чем другим. Тускнеющая палитра, ноты холода в еще теплых ветрах и затихающие ребячьи голоса во дворе, будто кто-то легонько крутит тумблер громкости. Но это все намеки, иносказания. Она уже идет навстречу, будто просто в гости, с добрыми намерениями. Будто «да я просто спросить, так, постою покурю». И ей поверят, впустят, лишь потом заметят крадущуюся тень. Но будет поздно.
Мы не успеем, никто не успеет, и она снова сделает с нами это, снова обманет как маленьких. То, чего начинаешь бояться в самом начале июня. То, чему пытаешься противостоять весь июль. То, из-за чего в тревожном ожидании проводишь август.
Осень убивает лето.
Убивает безжалостно, глуша воспоминания об объеденных комарами ногах, сне с открытым окошком и длинной секунде с задранной головой в ожидании летящего волана. Убивает первым опавшим сухим листом и первым надкусом балконного яблока, подгнившего внутри. Первыми осадками, первой лужей под неосторожной стопой. А там и первым морозом, обдавшим дыханием стёкла.
Тепло, может, и посопротивляется нехотя, для порядка – подарит надежду в виде бабьего лета. Но это обманка, фикция, отложенная казнь. Потом все равно начнется другая жизнь. Зелень, что без спроса бугрила асфальт с самого начала мая, сгниет и будет затоптана. Крапива не потянет за свободную брючину, не ужалит в уязвимое, не заставит сказать нехорошее слово. В голосах людей зазвучит металл: их жизнями снова начнут управлять органайзеры, списки, данные обещания и прочее высокопродуктивное бездушие. Лестничный пролет, который летом дается легко, в три секунды, через ступеньку, а то и просто стремительно по перилам, станет унизительным испытанием: тело обрастет новым жиром, капустными слоями одежды, а под шапкой будет потно зудеть. Табло трамвая будет врать, что нужный 26-й придет через три минуты, и эта тройка будет оставаться неподвижной долго, бесконечно долго, пока мимо один за другим будут ползти 57-й и № 1. Сапоги прохудятся, захлюпают, заставят прятать под диван давшие слабину колготки. Придется лезть на антресоль за зонтом, сушилками для обуви, шарфом, варежками – то есть одной, конечно же, варежкой. Они не дадутся в руки сразу, до них надо будет прыгать, прыгать, прыгать. Они посыпятся, как снег на голову. И снег на голову тоже посыпется. Время тоже потечет иначе. Это летом минуты летят без оглядки на мировые часы. Иногда они без предупреждения увеличивают ход до скорости х100, так что и не понимаешь вовсе: это сейчас было или не было? А иногда, спасибо им, останавливаются, замирают, наполняют мир застывшей негой. Но теперь они будут размеренными, монотонными, тягучими, невыносимыми. Небо погаснет, из него будет лить и сыпать – всегда, каждый день, безостановочно. Но в субботу или в воскресенье это даже хорошо – идеальное алиби для затворничества и сна длиною в целый выходной.
Это лето не будет исключением, осень его тоже убьет, оно закончится, как и все остальное. Так я успокаивала себя, пытаясь прийти в чувство после обнаруженных мною связей Антона. Меланхолии вторили и обстоятельства: накрывшая лагерь тишина впервые за долгие недели дала волю рефлексии.
– Ты сдурела, что ли? Нас же православные родители посадят за оскорбление чувств верующих. Или там, не знаю, экстремизм.
– Да при чем тут верующие? Мы просто предложим им всем помолчать денек. С утра и до обеда.
– А почему випассана-то? Почему не просто молчанка? Типа ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, все такое.
– Ой, Ви, ну ты чего как из деревни? Потому же, почему уборщица называется специалистом по клинингу, а секс без обязательств – friends with benefits.
– Ну допустим. Детям-то это зачем?
– Ты мемаешь, да? Дети любят хавать на дармовщину. Сделаем призы. Типа… отряд, который справился с молчанием лучше всех, получает… м-м-м… ящик мороженого.
– Ага. Ты бы сама заткнулась на день за мороженое?
– Хуёженое, – передразнила Люся в своей любимой манере.
Обиделась, и это понятно. Вопрос бил не в бровь, а в глаз. Заткнуться для Люси было чем-то недосягаемым. Слишком много событий происходило вокруг и внутри этой женщины, и событиями этими Люся никак не могла не делиться. Поэтому ее выгнали с ретрита в Подмосковье, куда она протащила телефон и, заскучав в первый же вечер, решила обзвонить всех подружек. Со второго – под Екатом – за то, что решила писать дневник. А третий, в Грузии, так и не начался: оказавшись на святой земле, наполнению духовному Люся предпочла наполнение гастрономическое. (Если бы дамы из соцопеки, у которых мы ходили клянчить повышенную матпомощь, знали, куда уходят семестровые выплаты, если бы они только знали…)
Видимо, сделать випассану в лагере для нее было шансом, как это модно говорить, закрыть гештальт. Модно вообще много чего говорить: уметь в медитацию, быть не в ресурсе, услышать себя, чтобы откликалось, гиперкомпенсировать. Люська этими словечкамиоперировала мастерски – тому ее научили сотни марафонов, где дышат маткой, выпускают негатив и впускают в себя внутреннюю богиню (кажется, в таком порядке). В мире цифрового буддизма, астрологии, натальных карт и прочей эзотерики она была своей, а потому довольно легко убедила директрису Кубышку на эксперимент. Воспиталка Гильза, правда, выразила сомнения: отрекомендовавшись человеком предметным, с тремя высшими образованиями и бесчисленными курсами повышения квалификации («у меня 62 диплома!»), она долго изводила нас вопросами о преследуемых целях мероприятия. В итоге осторожно согласилась. Сказала: давайте попробуем, только без глупостей. Сама-то небось подумала: «Господи помилуй, неужели полдня хоть поживем как люди? Молодцы, девчонки, молодцы».
Детям все было объявлено на дискотеке. Так и сказали: завтра практикуем випассану – особую практику молчания – с утра и до обеда. Охотников фрондировать Люсину идею не нашлось – видимо, сделала свое награда в виде просмотра «Евротура» и лишнего часа купания. Пока Люська все это восторженно рассказывала в микрофон, я смотрела на нее и все пыталась заново ее полюбить. Это было непросто. Зато было так просто в первый раз.
Люся
Ладно, Люську в свое время я тоже сталкерила. Куда более обстоятельно, чем Антона: где-то полгода или около того. Так мне понравилось ее нежное ФИО среди записавшихся на день открытых дверей. Рядом со мной примостилось вынужденно, ввиду алфавитного порядка. Людмила Львовна Лаврецкая. Эл-эл-эл. Отмотала стену «ВКонтакте» до самого донышка. Все прознала про музыку для себя и музыку для окружающих. И нелепый гэтсбинг: «Ребята, есть билет в кино сегодня, кто со мной?», а перед этим – хромые стишочки о мальчике и черно-белый портрет с декольте, вырез до прорези. Когда крыша моя совсем уехала на почве невроза от поступления и экстернатского одиночества, я Люсины фотографии стала сохранять в отдельную папочку. Так через три месяца воздыханий в метавселенной мои чувства к Людмиле стали весить под три гигабайта. А еще через три я снова увидела ее фамилию аккурат над своей, уже в списках поступивших. У нас даже было одинаковое количество баллов – 287. Только Люся уступила мне в литературе, а я ей в английском.
По невероятному совпадению, какие бывают разве что в дурацких киносценариях, нас заселили в одно общежитие. Только вот комнаты достались разные. Это не особо влияло: Люся без конца бегала в нашу 403-ю, выглядевшую на фоне ее серпентария в 515-й прямо-таки эдемом. Сначала робко стучалась и аккуратно спрашивала, можно ли войти. Потом – почти и не выходила. Так мы приклеились друг к другу. Насмерть, страшным кармическим клеем. Пили кофе из автомата, чью мерзость не могли смягчить ни сахар, ни молоко, тратили стипендию на «Жан-Жак» и дешевенькие черные кофточки из H&M. Давали друг другу списывать, щедро и без зазнайства: я – аудирование, которое у Люськи неважно шло, она мне – грамматику (убереги господи от использования партисип пассе, сколько лет прошло, а все никак не запомню). Мы хихикали над мажорками в лабутенах, говорили на тарабарщине, называли все уменьшительно-ласкательными («выпить кофечко», «сходить в гостички», «поставь скобочку»). Мы были как два куска пазла, как розетка и штепсель, как ключ и скважина, как болячка и пластырь, как «Абрау-Дюрсо» и болезная голова.
Однажды морозным вечером в длиннющей очереди в Большой театр, куда бегали смотреть балет – то есть не балет, конечно, а сверкающее тело огромной люстры и кусочек спектакля, доступный нищим с проходками за 150 рублей, – мы поклялись друг другу, что у нас все будет по-другому. То есть не так, как у наших родителей. Ни блеклого брака, ни чувств по принуждению, ни кабалы, ни пульта от телика в замызганном пакете. Наивные, злые, высокомерные козявки, мы вправду верили, что сможем сломать устоявшийся за века ход вещей. Но ход не ломался.
Проблема нашей личной жизни заключалась в некоторых неразрешимых противоречиях. Так, например, у Люськи было чайлдфри головного мозга, необузданное желание сидеть на десяти стульях (читай: флиртовать со всеми подряд) и при этом хорошо выйти замуж, чтобы главной заботой жизни стали фамильные вышивки на сатиновом постельном белье и поступление дочери в балетную академию Агриппины Яковлевны Вагановой. Мне же хотелось совсем другого – грязного хиппи без аккаунта в соцсети, который бы вез меня на мопеде в закат, а я бы обнимала его одной рукой, второй держала бы бокал портвейна и визжала от распирающей эйфории. По иронии судьбы в отношениях я всегда была с людьми иного толка – душными майонезниками, один другого майонезнее. Эти попытки цепляться за лоснящихся благополучием людей я объясняю проделками генетической памяти и страхом уходящей далеко в глубь женской линии традиции связать жизнь с нищим алкоголиком, как это сделали все, кроме мамы, – сестра, тетя, бабушка, пра-, прапра-и так далее. Мажор-пикапер Вася, оценивающий женщин по десятибалльной системе. Стоматолог Андрей Викторович, чуть не вставивший мне белоснежные унитазные зубы, как у себя самого. Единственный с налетом творческой богемы – креатор Николай. Список короткий, но такой скучный, что и продолжать не хочется.
Люська мне все время говорила: «Ну и чего ты ноешь? Просто бери от жизни все». Я ее не осуждала. Знаете, есть два типа людей: одни едят сначала невкусное, а потом вкусное, а другие наоборот. Люся была из последних. Женщина-праздник, рожденная, чтобы носить сверкающие платья, получать норму белков-жиров-углеводов из игристого алкоголя и, запрокинув голову, на всю улицу хохотать. Почему-то три года подряд она не могла отшить Гошана – молчаливого, долговязого, будто прозрачного и чуточку женоподобного. Он запал на Люську еще на посвяте, к этому многие отнеслись с пониманием – так остроумно и изящно она выполнила задание начертать на асфальте фамилию декана собственной мочой. «Ой, ребят, нассать в бутылку – это семи пядей быть не надо», – Люська смеялась, а Гошан смотрел завороженно. С таким же лицом он занимал ей очередь в буфете, таскал продукты в общежитие и строгал рефераты по философии, тем самым сделав ее лучшей по предмету на курсе. Гошан ей, конечно, совсем не подходил. Это особенно чувствовалось, когда он исподлобья посматривал на нее после каждой своей шуточки и кивал придурком, предвосхищая любой ее вопрос. Но Люся позволяла ему находиться в своей компании. К тому же ей было больше не с кем ругаться в конце сложного дня. Вот она и ругала Гошана. «Ну что ты вообще можешь мне предложить? Ты нищий! Я нищая! Мы нищие крысы! И будем всю жизнь влачить жалкое существование!» – орала Люська на весь коридор, показывая драный шнур от компьютера, которому Гошан не мог ничего возразить. Я говорила Люсе: «Ты б пожалела пацана, он же в тебя влюбился». Она только отмахивалась, говорила: «Да у него просто ПЗР (расшифровку общажной аббревиатуры – пизда затмила разум – я выучила лишь к четвертому курсу).
Когда Люся окончательно превратилась в женщину типа «я так больше не могу», Гошан пошел работать грузчиком в «Перекресток» у нашей общаги. Спустя два месяца он вылетел с первых строчек рейтинга до позорных середняков. Заметно скромнее стали и Люсины успехи в области философии. Зато Гошан подкачался, стал, что называется, парнем при бабле и купил Люсе новые туфли. Люся, не чуравшаяся материализации чувств, этот дауншифтинг поощряла – за неимением альтернатив. Как и многим другим женщинам, терять поклонников ей не хотелось.
Тогда она согласилась: «Ладно, иногда я буду твоей девушкой». В Люсином понимании главным было слово «иногда», однако Гошан услышал все что угодно, кроме него. Так Люся стала ночевать в комнате Гошана – иногда. Потом она вбегала ко мне в три утра и начинала обстоятельно пересказывать, как что было и кто что при этом говорил. А ты че, а он че, а я такая, а он такой. Время от времени у нее случались ипохондрические истерики: Люся, то и дело подозревая разнообразные дремавшие в теле заболевания и нежелательную беременность, не могла остановить воображение, рисовавшее ей картины сифилиса, ВИЧа, гонореи, всех ЗППП мира. Из-за этого мы часто ходили к гинекологу и фантазировали, как назовем их с Гошаном детей. Обычно спустя неделю после этого у Люськи начинались месячные и никаких инфекций не обнаруживалось. Их вялотекущее пунктирное нечто, казалось, вот-вот обретет четкий контур и проделает путь с остановками во всем известных заведениях: ЗАГС – IKEA – «Сбербанк», программа льготной ипотеки молодым семьям – роддом – квартира любовницы и так далее. Так все, наверное, и было бы, не посягни однажды Люська на святое. То есть на мое.
Ну, как мое? Я его застолбила сразу, заранее, после некоторой сторисной прелюдии в виде огонечков и пары остроумных панчей в чате. К тому моменту мы с ним несколько раз погуляли за ручку, и я, выдержав для порядка пару свиданий, позволила себя поцеловать. После чего мы завалились к нему домой в шесть утра с хорошо угадывающимся силуэтом бутылки коньяка в кармане моего плаща и встретили на пороге его маму, уходившую в церковь. Потом я заперлась в ванной, где меня долго и страшно выворачивало, а его мама робко стучала и говорила что-то про возможное опоздание на исповедь.
Угорали мы с ним довольно страшно и весело, а Люська из-за этого подозрительно нехорошо вздыхала. Что-то скрывалось за ее участливыми расспросами о моем наклевывающемся романе, думала я, и думала, как оказалось, не зря. На каком-то общажном сборе она к нему аккуратненько подкралась, примостилась рядышком будто случайно. Знаете этот момент на вечеринке, когда ты разговариваешь с кем-то абсолютно тебе неинтересным и краем уха слышишь, что интересное на самом деле не здесь, а совсем в другом углу комнаты, но уйти не можешь – не обрывать же визави на середине слова. Так и стоишь как дура, говоря одно, слушая другое и прикидывая, как бы поскорее слиться. Вот так со мной в ту ночь и было. Только слиться, дабы предотвратить катастрофу, я так и не успела. Эти двое ушли в неизвестном (еще как известном) мне направлении.
Надо сказать, в нашей тогдашней компании между мальчиками и девочками было не принято подтверждать статус и прояснять качество связей, будто мы на Вудстоке. Но не были мы ни на каком Вудстоке, мы были в Москве, а в Москве так не решаются вопросы, это, в конце концов, не по-пацански, думала я. Я еще много чего думала. Что Люся – сучара, дура, идиотка, эгоистка, попросту – мразь. Что я имею право топать ногами и требовать оставить мое в покое. Потом была ссора, в которой мне много за что предъявили: купила такое же платье, строила глазки Гошану, зажала какие-то шпоры.
Мы не общались целую вечность – кажется, семестра полтора или около. За это время у Люси было три пересдачи по аудированию, и однажды она дошла до комиссии. Я очень переживала за нее и хотела помочь. А еще я очень хотела, чтобы ее отчислили. Чтобы на финальной пересдаче ее раздавили, уничтожили. Чтобы завкафедрой Людов (прозванный, конечно же, Лютым) попросил ее, как он всегда поступал с неудачниками, проспрягать глагол ?tre, а она от волнения не смогла бы и этого. Чтобы ей сказали, что она разочарование курса и педагогическое фиаско. Чтобы она унижалась перед комиссией и вымаливала еще один шанс. Чтобы после она плакала, размазывая по своей глупой роже зеленые сопли. Чтобы ей пришлось съехать с общаги. Чтобы она собирала свои монатки, а все бы смотрели сочувственно и предлагали бы помощь, а сами думали бы: «Слава богу, не я». Чтобы она умотала, к чертовой матери, в Рыбинск. То есть не к чертовой, к своей – на сытные харчи, и стала наконец толстой, безразмерной. Чтобы вышла замуж за мента и родила от него, как и полагается в таких ситуациях, ровно через полгода. Кажется, такая сильная ненависть бывает лишь к самым любимым.
Люську не отчислили. Это было неудивительно: в мирное время мы хорошо учились, ноздря в ноздрю, но она все-таки чуточку лучше. Выезжала на харизме. К тому же ей не было равных в вопросе изобретения отмазок и эффективно работающего вранья: Люськины невестки и троюродные племянники то и дело помирали перед зачетами, а потому ну никак не давали ей подготовиться на 100 баллов. Но вы уж поставьте, пожалуйста. Ладно, Лаврецкая, в последний раз. Имена родственников то и дело повторялись, что свидетельствовало о суперспособности Люсиных членов семьи к воскрешению – способности, не вызывавшей тем не менее не единого сомнения. Ей просто нельзя было не верить на слово, просто нельзя.
Я тоже не отставала – училась пуще прежнего. Увы, не для себя, а ради некоего вымышленного соревнования. Моей главной мотивацией того времени была мотивация «назло», и она меня не подводила. Никогда прежде мой рейтинг не достигал отметки 98, никогда в зачетке не было так тесно буковкам А. Но я знала, что этим искусственным пятеркам грош цена.
Я часто наблюдала за Люсей через стекло лингафонного кабинета, услужливо непрозрачного с внешней стороны. Огромные наушники сдавливали ее маленькую голову и категорически ей не шли. Я видела, как она страдает: нажимает по сорок раз на кнопку повтора, вслушивается. Как карандаш в ее руке не поспевает за болтовней диктора. Как она от злости швыряет в стену этот самый карандаш. Мне очень хотелось зайти внутрь, но я не заходила. Кроме того, были еще встречи в «Переке» у нас на районе. Мне было вдвойне неловко, когда мы сталкивались тележками возле товаров по акции: во-первых, от нашего случайного рандеву, во-вторых, потому что покупать по акции я в принципе стыдилась.
Иногда я рассматривала ее аватарку, на которой стояла редкой отвратительности фотография. Люська на ней была ненастоящая, чужая, не моя. Скобки рыжих бровей – густых и буйных в жизни – вскинуты презрительно. Прямая линия волос – обычно не знавших расчески, неукротимых, как и она сама, – падает на дофантазированные фотошопом ключицы. Лоб вылизан. Ни морщинки мимики, ни созвездий прыщиков от уничтоженной по грусти коробки конфет. Скульптурный изгиб шеи, кожа – холодный фарфор, на бисер веснушек ни намека, только румянец искусственный. Самая жуть – это, конечно, глаза. Взгляд злой, надменный, маринующий в ожидании. Все как у ее любимых светских див. Спасибо, носик хоть оставила, вздернутый, капризный. В нем вся она, Люся, не картонная, не сделанная картинка. Такой скандал из-за нее мне как-то закатила, недосчитавшись лайка. Истеричный голосок вспыхивал в трубке, а я слушала молча и представляла, как вечный спутник Люськиного гнева – красноватое рваное облако – опускается с лица на грудь.
Вообще я думала, такое бывает только в сериалах на канале «Россия-1». В том смысле, что подобных поступков просто не существовало в моей системе координат, где все было покрашено в черное и белое и поделено на простые категории – «хорошо» и «плохо», других не было. Поэтому я совсем поехала кукухой и перестала спать. Приложение для медитации и счет баранов не помогали: на 7386-м обычно звенел будильник.
С уходом Люси из моей жизни исчез не только сон, а также спонтанность, понимание с полуслова, ощущение partner in crime. Нечего стало делать вечерами пятниц и суббот, не с кем стало делить один на двоих капучино, незачем спорить, на каком молоке он будет (я топила за ЗОЖ и всегда брала соевое, она – простое, понятное, жирностью 3,2 %). Не с кем стало играть в точки на военной кафедре, куда наши девочки шли по понятным причинам факультетского гендерного перевеса. Военку у нас было принято называть войной. Так и говорили: «А война завтра будет? Ты на войну идешь?»
Заткнуть образовавшуюся дыру я пыталась разными способами. Сначала, как велят блогеры, собой. Пошла на йогу, к психологу и записалась на третий, совершенно ненужный мне, греческий язык. С йогой не сложилось, когда в конце первого занятия тренер предложила сесть к соседу на коврик и в течение минуты обсуждать все новое, что мы узнали за сегодняшний день. Психолог с изысканной фамилией Альпиди продержался подольше – аж три недели смаковал мои детские травмы. Но в разговоре про невесть как всплывшего котика Плюма, погибшего ужасно глупой и обидной смертью (оставленный зачем-то после операции на балконе и не отошедший от наркоза бедняга упал с пятого этажа), терапевт записал что-то в свой блокнотик и сказал: «Понятно-понятно, Плюм сделал плюх». С греческим пришлось расстаться после знакомства с расписанием: пары по третьему языку нам ставили в немыслимые для февраля 7:30 утра. Так мои познания и ограничились курортными словами «калимэра» и «малака» (последнее, кажется, не в полной мере печатно).
Безуспешно попытав счастье в дружбе с собой, я решила найти альтернативу Люське, что, конечно, было затеей, в зародыше обреченной на провал. Пару раз я сходила выпить кофе с Камиллой из нашей французской группы – девочкой с мощным кавказским бэкграундом, которую отвозил «в школу» охранник. Провожал ее до входа, встречал, сажал в машину и ни при каких обстоятельствах ее не касался. Даже когда однажды зимой Камилла недостаточно крепко всадила шпильки своих лабутенов в корку крылечной наледи и, глупо взмахнув руками, приземлилась на едва прикрытый совсем не ханжеской мини-юбкой зад, он не подал ей руки. И подумать страшно, что бы с ним сделали, тронь он глубоко династическую барышню хоть пальцем. Камилла была невозможно, непростительно красивой и ежедневно появлялась в институте такой, словно после пробуждения ходила на массаж, укладку и макияж (не исключаю, что так оно и было). Как-то раз она призналась, что пошла в магистратуру, потому что институт – единственное место, куда отец отпускал ее без сопровождения братьев и нелюбимого жениха. Потом она рассказала, что иногда ей удается уговорить охранника соврать отцу о пробках, чтобы хотя бы на тридцать минут встретиться с подружками в «Кофемании». Что она боится маячивших впереди госов не из-за самих госов, а из-за того, что с окончанием университета исчезнет возможность хотя бы изредка покидать отчий дом. Что следующая остановка после дома отчего – дом мужний, и так далее, и так далее. «А может, аспирантура или соискательство?» – пошутила я, но шутка не встретила понимания. Камилла просто не знала, что это, и потому лишь подозрительно прищурилась. Она так же щурилась на словах «стипендия», «общежитие», «социальная карта», а однажды попросила меня сфотографировать метро. Это было даже интересно какое-то время. Особенно под Новый год, когда Камилла подарила мне сертификат на несметные десять тысяч рублей в какой-то буржуазный магазин ароматических свечей. Я почти плакала, осознавая, что трачу четыре своих репетиторских гонорара на всего-навсего ароматизированный воск в красивой эмалированной баночке. Баночка эта стояла в нашей комнате на правах музейной редкости, зажигалась только по торжественным поводам из соображений экономии. Кажется, ей даже удалось пережить нашу с Камиллой странную дружбу, довольно быстро выдохшуюся за отсутствием общих тем.
Еще был шанс у рано женившегося и оттого рано повзрослевшего одногруппника Бори, который теперь подсаживался ко мне на лекциях и придушенно хихикал своим же армейским шуткам, половину слов из которых я не могла разобрать, отчего все время чувствовала себя виноватой. Боря забавлял всех сам по себе – наличием в двадцать один год тещи и совсем не зумерским увлечением рыбалкой. Случайно сделав матерью нашу одногруппницу Лялю, которой не оставалось ничего, кроме как бросить штудии и уйти в академ, Боря посещал пары с особым рвением, будто за них обоих, и являл собой из-за этого тот надоедливый тип людей, после общения с которыми хотелось облегченно вздохнуть.
В порыве отчаяния я вспомнила даже одноклассницу Леру, с которой мы водились когда-то в школе. Сошлись мы с Лерой на почве того, что почему-то единственные из класса палились на подлоге домашек. Сначала изошница Марья Сергеевна не хотела принимать наши работы, в которых нет-нет да проскальзывали четкие взрослые линии рук наших мам. А прежде ходившие на одну работу папы в еще безынтернетные и бескомпьютерные времена скачивали нам, видимо помогая друг другу, одни и те же сочинения, после которых неизменно звучал вопрос учительницы: «А оценку мне вам тоже на двоих ставить?»
Как-то, сидя в печальном пустом автобусе воскресным вечером, я ответила на ее сторик и позвала на кофе. Зря. При ближайшем рассмотрении настоящая версия Леры оказалась куда бледнее виртуальной. Математически одаренная, непосредственная хохотушка в школе, во взрослой модификации она будто напрочь утратила свой внутренний запал. Лера не смотрела фильмов и не читала книг, не имела мнений, не любила гулять, сплетничать и спорить. Скукотища.
Не найдя достойную эрзац-версию подруги, я и опустилась на дно, скачав «тиндер». Про «тиндер» даже шутить не буду, все и так уже про него понятно. Скажу главное: мое трехнедельное избирательное свайпание увенчалось свиданием с Вадиком. «Стилист, москвич, 30+ стран, люблю духовное саморазвитие и культурное обогащение, творческий, квартира своя». Изучив этот список добродетелей, я подумала: «Офигеть, так можно писать на полном серьезе?» (Оказалось, что можно.) Рука уже даже дернулась отправить Люсе: она бы такое описалово наверняка заценила.
В общем, я согласилась на встречу. В противоположность предыдущим своим свиданиям, когда явки назначались в статусных культурных заведениях, я, памятуя о том, как на опере Гергиева мой желудок урчал громче оркестра, предложила Вадику самое искреннее, чего хотела в тот момент: «Давай просто где-то пожрем?» Вот так, без малейшего желания понравиться. Он охотно поддержал затею. Я подумала тогда: ну, может, хоть волосы бесплатно покрасит. Хочешь поменять жизнь, так сказать, поменяй прическу. Он и поменял. Хорошо, кстати, поменял, прямо на дому. Усадил в кресло, жестом фокусника раскинул опавшую с шелестящим выдохом парикмахерскую мантию и сказал тоном конферансье, гордо и явно не впервые: «Добро пожаловать в салон Вадима Борченкова». В тот вечер я вышла из его квартиры с новым цветом волос, первыми предвестниками кандидоза и ясным знанием: «Теперь у меня есть парень». Волнительных ощущений я по этому поводу не испытала. Ну разве что зуд в известной области.
Надо отдать ему должное, в освободившийся после потери Люськи паз моей и без того шаткой жизненной конструкции Вадик вошел как влитой. Я, может быть, даже научилась бы снова полностью функционировать и зажила бы нормальной жизнью, не случись как-то раз общажная тусовочка по случаю конца лета, возвращения из отчего дома и начала учебного года. Мы были довольно пьяны к тому моменту, как она подошла и сказала что-то в духе: «Ну, может, хватит уже?» Я сухо кивнула, мол, да, хватит. Мы обнялись и синхронно разрыдались. Наверное, если бы существовал чемпионат по самому ванильному перемирию, нам дали бы грамоту первой степени.
На следующий день наступила осень, с ней – трезвость. Они в совокупности выявили проблему. Да, я простила. Но расщелина недоверия осталась. Из нее посвистывало и поддувало холодом. Новая страница нашей дружбы все не писалась – она, как лежащая под копиркой, впитывала и впитывала отпечатки предыдущей. Мне казалось, что Люська снова, вся такая сверкающая, прямо в уличных туфлях зайдет в мою стерильно прибранную жизнь, натопчет, возьмет, что нужно, и испарится. Поэтому я и не возражала против «Чайки». Я почему-то очень надеялась, что эта поездка поможет склеить то хрупкое, что осталось между нами. Что весь анамнез затеряется в шелухе памяти и я перестану ее ненавидеть, завидовать легкости нрава и раздражаться на постоянную готовность кокетничать со всеми подряд. Что любой новый страх перестанет по инерции протаскивать меня по всем колдобинам нашей сложной истории.
Но у меня не очень получалось. Ситуация особенно усугублялась тем, что в какой-то момент мне померещилась химия, якобы возникшая между ней и Антоном. Не веря голосу здравого смысла, я слушала голос домыслов. А ему, голосу домыслов, ой как не нравилось, когда Антон как бы впроброс говорил: «Веселая у тебя подруга», – или когда Люся пискляво, с интонированием тянула при встрече: «За-а-а-ай…» Я чувствовала уколы ревности всякий раз, когда он даже просто смотрел на нее, а наблюдение за их хихиканием в курилке рождало в области груди назойливую тревогу.
Короче, в день, когда Люся предложила випассану, я решила пресечь рвущую душу рефлексию. Прямо на собрании, где обсуждались правила завтрашнего молчания. Именно там я и придумала подсмотреть, не с Люсей ли Антон так увлеченно весь вечер переписывается. Я встала за ним на расстоянии полуметра. И ничего, конечно же, не увидела. А потом изобрела такой финт – навести на его телефон камеру и увеличить зум до х5. Стыдно, конечно, но что поделать. И вот стою я в беседке с телефоном, якобы фоткаю. Руки трясутся, предельное палево. Приближаю. И вижу: действительно переписывается. Только не с Люськой. А с кем-то, кто записан у него в телефоне словом ЖЕНА.
Увиденное здорово выбило меня из колеи. И это даже несмотря на тот факт, что мы, получается, были в одинаковом положении: оба несвободны. И потому в тот вечер ни в какую «Акварель» я не пошла.
То есть пошла, конечно, в надежде, что будет свидание. Но он в тот вечер был особенно хмур и вообще не обращал на меня внимания. Тогда, всласть порыдав на море, я пошла спать. Светлячком в непроглядной тьме мерцала одна лишь завтрашняя тишина.
Жена
Эту коварную поступь не спутаешь ни с чем другим. Тускнеющая палитра, ноты холода в еще теплых ветрах и затихающие ребячьи голоса во дворе, будто кто-то легонько крутит тумблер громкости. Но это все намеки, иносказания. Она уже идет навстречу, будто просто в гости, с добрыми намерениями. Будто «да я просто спросить, так, постою покурю». И ей поверят, впустят, лишь потом заметят крадущуюся тень. Но будет поздно.
Мы не успеем, никто не успеет, и она снова сделает с нами это, снова обманет как маленьких. То, чего начинаешь бояться в самом начале июня. То, чему пытаешься противостоять весь июль. То, из-за чего в тревожном ожидании проводишь август.
Осень убивает лето.
Убивает безжалостно, глуша воспоминания об объеденных комарами ногах, сне с открытым окошком и длинной секунде с задранной головой в ожидании летящего волана. Убивает первым опавшим сухим листом и первым надкусом балконного яблока, подгнившего внутри. Первыми осадками, первой лужей под неосторожной стопой. А там и первым морозом, обдавшим дыханием стёкла.
Тепло, может, и посопротивляется нехотя, для порядка – подарит надежду в виде бабьего лета. Но это обманка, фикция, отложенная казнь. Потом все равно начнется другая жизнь. Зелень, что без спроса бугрила асфальт с самого начала мая, сгниет и будет затоптана. Крапива не потянет за свободную брючину, не ужалит в уязвимое, не заставит сказать нехорошее слово. В голосах людей зазвучит металл: их жизнями снова начнут управлять органайзеры, списки, данные обещания и прочее высокопродуктивное бездушие. Лестничный пролет, который летом дается легко, в три секунды, через ступеньку, а то и просто стремительно по перилам, станет унизительным испытанием: тело обрастет новым жиром, капустными слоями одежды, а под шапкой будет потно зудеть. Табло трамвая будет врать, что нужный 26-й придет через три минуты, и эта тройка будет оставаться неподвижной долго, бесконечно долго, пока мимо один за другим будут ползти 57-й и № 1. Сапоги прохудятся, захлюпают, заставят прятать под диван давшие слабину колготки. Придется лезть на антресоль за зонтом, сушилками для обуви, шарфом, варежками – то есть одной, конечно же, варежкой. Они не дадутся в руки сразу, до них надо будет прыгать, прыгать, прыгать. Они посыпятся, как снег на голову. И снег на голову тоже посыпется. Время тоже потечет иначе. Это летом минуты летят без оглядки на мировые часы. Иногда они без предупреждения увеличивают ход до скорости х100, так что и не понимаешь вовсе: это сейчас было или не было? А иногда, спасибо им, останавливаются, замирают, наполняют мир застывшей негой. Но теперь они будут размеренными, монотонными, тягучими, невыносимыми. Небо погаснет, из него будет лить и сыпать – всегда, каждый день, безостановочно. Но в субботу или в воскресенье это даже хорошо – идеальное алиби для затворничества и сна длиною в целый выходной.
Это лето не будет исключением, осень его тоже убьет, оно закончится, как и все остальное. Так я успокаивала себя, пытаясь прийти в чувство после обнаруженных мною связей Антона. Меланхолии вторили и обстоятельства: накрывшая лагерь тишина впервые за долгие недели дала волю рефлексии.