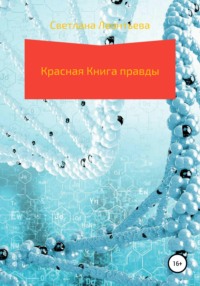По берёзовой речке
а поэты товар – это штучный и редкий.
Но где взять человека, вас двое и Ленин,
чтобы, как Ломоносов воскликнуть: «Фелица!»
Мы все – лошади, волки немного и птицы
и скрепляем мы небо корнями растений.
У меня у самой мало города нынче,
Коромыслова башня растёт из-под грудья.
Не забыть, как единственная в многолюдье,
как держала бокал, оттопырив мизинчик.
И никто – ни актриса с шагреневой кожей,
не затмили огромное, дерзкое, злое
беспрестанное солнце её стройных ножек,
её талии тонкой и туфелек в дождик,
как затмение, срыв, как провал тот, что ноет.
Словом, Лилия Брик, говорили, шпионит.
Как шпионить разнеженным, женским, открытым,
дозволяющим всё, телом тёплым и сонным?
И одним вместе с мужем налаженным бытом?
Уж взяла, так взяла, победить победила,
отдалась побеждённая, взятая, вжавшись.
Даже время не смыло,
не смыла могила,
где касался поэт – амальгама пробилась,
где касались иные – лишь ржавь от медяшек.
Я сама иногда ощущаю на пальцах,
если камни поэтовы глажу рукою,
нет, не раны, но отблеск тончайшего глянца.
А представьте постель с ним
и всё там такое!…как хочу я людей полюбить точно также,
чтобы пулю себе в сердце и на диван лечь!
Силуэт его светит мне многоэтажно,
каждый день, каждый миг мой и каждый мой вечер.
О, какие они эти детские плечи,
словно детские плачи, что сердце калечат.
Вижу я лишь рыдания и колыханья,
вижу туфли да юбки. Да что мы все знаем,
если люди, как глыбы, как скалы, громады,
чтоб поддерживать землю: нам это лишь надо!
***
Богатый, красивый такой, из варяг,
как раз по пути ко арабам и грекам.
Хочу это помнить всем сердцем, взатяг,
хочу это чувствовать! Именно это.
Лежат на земле шкуры лис да волков,
кувшины наполнены брагой веков,
доспехи: секира, ножи, булава
да острые копья – лети голова!
Всё, как на картине В. М. Васнецова,
скирда, сноп и колос, солома, полова,
а далее – Ладога, Новгород. Пеший
маршрут был проложен сквозь дым и пожары.
Малюсенький Киев пред ним распластался,
и взял этот Киев Олег, званный Вещим.
Гой еси, гой если, отсель Древнерусье,
откуда у нас родословные ветви.
Мы все мироздания – чада, все – дети!
А после Владимир-град встал в лихолетье
столицей всея! В стольный день, мясопустный
не ешь нынче курицу в мятном рассоле,
не ешь нынче зайца в свекольном растворе,
не ешь ты баранину вкупе с капустой.
Рожай, Русь, князь Игоря – Рюрика сына,
на Ольге жени его! Как же красивы
князья на Руси! Боже, как все красивы:
усы, борода, в небе острые шпили.
Но Игоря зверски древляне убили…
А в Искоростень голубь, сойка вернулись,
на лапках огни, как берёзовый улей
пылали! И всем мщеньям – мщенье сверкало:
сожжён город был не людьми, не волками,
а птицами. Вот уж любовь, вот уж страсти!
На мщения Ольга княжна была мастер.
А Киев что? Маленькая деревушка,
она непокорна, сурьмна, непослушна,
дома деревянные, церковок главы.
Мне помнится Киев Печорскою лавой.
А после Владимира тоже столица,
куда же князьям во престолы садиться?
Семьсот пятьдесят вёрст супротив Батыя:
а вот и Москва, бережища крутые,
столица Руси,
а теперь всей России.
Такая любовь. И дороги такие.
К холму припадаю, высокий он, в глине.
Кто там, под землёй? По чьему иду телу?
На чьих я крестцах, позвоночниках, спинах,
на чьих животах, на груди исполинной?
Ветра отпоют и постели постелют,
неся впереди свой живот, весь в прожилках
из трав, из суглинка да из иван-чая.
Такая любовь. И бескрайность такая!
Что хочется крикнуть им: вот вечно жить бы!
Сижу.
Закурить бы. Но я некурящая.
Сижу. Мне сто грамм бы. Но, нет, я не пьющая.
Внизу подо мною схоронены пращуры.
Красивые самые. Самые лучшие.
***
Нынче спою тебе работу и безработицу.
Нынче станцую тебе один из своих смертных танцев…
В девяносто девятом пришлось мне уволиться.
Да, конечно, могла бы тогда я остаться.
Я могла бы остаться сурдо-переводчицей.
Но поехала дальше учиться в Москву я.
Вот бывает нельзя. Но, когда очень хочется,
то бросаешь ты всё так, как я подчистую.
Двое маленьких деток теперь под приглядом
тётки, мужа, свекрови.
А маме – учиться
в институт на Тверской. Дождик на Баррикадной.
У меня дождь весь день. Вырвать как мне столицу
и как вырвать тот день из груди беспощадно?
Приходилось работать. Работа – не волк вам
тот, что серый-пресерый, что самый-пресамый.
Кем работала я? Как сбегала с уроков?
Продавщицей, ходячей под снегом рекламой.
Вот была бы Цветаевой, посудомойкой
попросилась бы я в ЦДЛ, столь великой,
столь прекрасной, чудесной в своей паранойе,
столь волшебной и сказочною горемыкой!
Но берут мыть посуду иных. Сопричастных!
…Не могу рук разъять, с плеч убрать я столетья!
Не могу я из горла крик выдрать! Качаться
между пряником и социальною сетью.
Член Союза писателей! Денег не платят!
И союз – не работа, а – взносы по тыще!
Да, работа не волк. Но она меня рыщет,
хоть уборщицей, а хоть рантье. В результате:
мои книги\ стихи мои,
если конкретней
вырывают кусок мой из горла последний!
(За стихи, вообще, ни за что денег нету!
Гонораров тем более. В прошлом всё это.)
Есть, конечно же, гранты один на сто тысяч –
лучше посудомойкой отныне и лично!
Чтоб воскликнуть: поэма, о песнь моя, лебедь,
ты закончена! Можно хоть в петлю, хоть в небо!
Можно хоть мне в груз двести иль в груз сто на двадцать,
но цыганкой по соцсетям – не побираться!
Мыть посуду? Пожалуйста, хоть в ЦДЛ-е.
Бить посуду? Пожалуйста, страстно и жадно!
Я, как волк, так привыкла всегда быть в прицеле,
я же знала на что я иду безвозвратно!
***
Соборность – собор, сборность – собрание,
соборность есть то, что я внутренне чувствую.
То, как распростёрла к тебе свои длани я,
одними устами кричу, как стоустая!
Я древо своё охраняю мне данное,
листок его каждый без сна и без устали.
Соборность – дозорность. Не клюй очи сини мне
и в хрупкие кости гвоздей бить не надобно!
Приглядываю за своею Россиею,
как верующий в храме утром полпятого.
Мой род – землепашец, все деды пахали,
мой род – работяга, трудяга, солдатский.
И древо моё не приемлет окраски
иной, кроме правды и в Книге он красной
из меди, сребра, из руды, злата, стали.
Соборность, как связь между миром усопших
и миром живых, я веду перекличку!
Отец – кавалер орденов, если б дожил
до нашего времени, чтобы в шашлычке,
кого бы ругали они с мужиками?
А после бы «Волгу» чинил, как яичко
она бы сияла. А мне:
– Иди к маме! –
он бросил сурово бы. Это – соборность,
когда я сажусь рядом. Мама – большая!
Я – внучка героя.
Я – дочка героя.
Я связь между космосом, между землёю.
Решаю не я. Вся соборность решает.
Не вещь, не еда,
не питьё, а огромность –
сурова, колюча, огниста соборность!
Надмирна. И мирна. Как поле с пшеницей.
Не жалко – внедриться, убиться, разбиться,
как Чеховский сад, что подрублен под корень
и выросший снова ещё непокорней.
Соборность, как Сын, что пред Пасхой распятый,
как родич от горя к нему распростёртый!
Как русский совок, колорадо и вата
упёртый!
Что, суки, стреляют? Послушай, послушай,
душа моя рвёт из разреза халата.
Ты видел большую соборную душу?
Не струшу, не струшу, не выдам собрата!
Соборность, как будто твоя непокорность,
хочу я поднять эту землю, и баста!
Пока не очищу от грязи и сора,
не стану я в небо своё возвращаться.
***
…руки пахнут мои соляркой, бензином, тире – распятием!
Мы, русские, виноваты за то, что всем хочется греться.
Нашей нефтью сгорающей, двигающей! Непорочным зачатием
пахнущая, так ядро пахнет, сердце!
Так ещё пахнут краски на иконе Богородицы,
если близко-близко подходишь, каешься, причитаешь.
Мы, русские, виноваты за то, что, как водится,
не вышли лицом. Вышли – ликом смертельно, без края.
А ещё за то, что всем хочется кушать
с маслом, с мёдом, икрою, с паштетом и салом.
Моя родина! Милая, самая лучшая,
да, в тебе этой нефти, подумай, ни конца, ни начала!
Да, в тебе этой чёрной, как схима монаха,
да в тебе этой рыжей, как балаган, как Петрушки рубаха,
бирюзовой, как в луже из-под мотора машины,
нефть моя чёрная, иссини-синяя!
А мой дед находился, как раз за Байкалом.
А мой муж в «Транснефти» зарабатывал деньги.
Я на них – нефте-рублики – книжки тогда выпускала
мои первые оды, поэмы, элегии!
Нефть, нефть русская кровь наша, жгуче раскосая,
лью в бак бензин, чтобы степь под колёсами,
чтобы горы, чтоб реки, моря атлантидовы.
Не таите вы злобы, исчадий, обиды ли…
У нас нефти, как божьего, вечного страстного
много множества! Словно бы солнышка ясного,
Князь-Владимира столько же в водах крестившего,
нынче нефть, словно Днепр, хватит всем и грядущим всем!
Ни Батый, ни Мамай не страшны нам, растившие
то набеги врагов, то Орду, нас грызущую!
– Мне по нефти до вас! Палки хватит в колёса мне! –
так бы выйти на плёс, прокричать в небо прямо мне!
Мы от Карбышева и до Зои колосьями
прорастаем былинными, честными, пряными!
Нефть превыше всего. Нефть прекрасней черёмухи.
Маргарин, пластилин, пластик, в парке скамеечка…
Если сердце изранено,
то лечим промахи:
надо нефть приложить к вещей ране на темечко!
***
Я же не просто вынашивала, я рисовала картинами,
ладаном, миром, воззваньями матушкиных молитв,
знаньями, солнцами, лунами марсовыми, перинными
всех предстолетий, каждое радостный монолит.
Я вышивала иконою тексты такие наивные,
молитвословом, законом ли о Благодати людской,
ткань мастерила из шёлка я. Бязи да ситцы былинные,
и получился – родился ты, сын мой, хороший такой.
Если бы так всю галактику нежить, лелеять, вынашивать
с красной строки бы вынянчивать, вить бы глазурную нить,
ибо причастна ко времени я атлантидному нашему,
ибо причастна…да что уж там, люди мои, говорить?
Ибо случилось, ношу в себе заповеди, как все матери,
помните, горе Одесское? Помните фосфорный град?
Если б спасти…вырвать сжатые смерти тиски, выдрать клятвами…
если бы вместо солдатика…чтобы он жил бы! И нате вам
ждать, принимать, верить, плакать мне,
биться о дождь, снегопад.
Вот я иду: заметелена ветрами, я вся зарёвана
листьями красными, алыми, желтыми в розовый цвет.
Этой рябиной оранжевой, этими чудными клёнами…
Выносить мир бы мне! Выродить! Ночью закутывать в плед.
Также расписывать радугой, искрами, небом, иконами,
словом благим Златоустовым, Ветхим заветом, мольбой
в церкви старушек. О, помню я лица, платочки их скромные,
спины, ключицы. Мир помню я
весь! Весь до корня! Любой!
Право, но ты был, мой Господи, ты был всегда в сердце, в семечке,
в ядрышках этого семечки, в самом далёком углу,
был до распада. Был всем ты мне – этим пространством и временем
был, потому распласталась я, вот потому на полу…
Вот потому и взываю я, руки дрожат, сердце грохает
в Древней Руси и Аравии. Вот бы мне также лежать
семечком этим! Земля бы вся спину мне грела, огромная!
Вырасту деревом. Помню я,
как мне рожать Божьих чад!
***
Мой олений сын, мои подруги-берёзы, мои невероятные ёлки,
так бы выходить, не озираясь, не опускать глаза, лишь видеть прошлое,
лишь верить в прошлое, что рисует многое в нежнейшем шёлке,
поворотись! И за нами – будущее, за рекой Смородиной – за Серёжею.
Если бы не было будущего, что по-мордовски: Алатырь-камень,
этих будущих строк Мандельштамовских, придуманных в прошлом,
этих будущих книг, как у Толстого «Каренина Анна»
Нет, не прошлое в будущем! Наоборот. О, возможно ль
мой олений сын, мои подруги-берёзы в белом цвете застыли,
так вгнездилось в меня распоследнее наше отечество!
Называй ты как хочешь поля, эти речки ковыльи,
называй их «прародина» та, что, вонзившись, не лечится.
Я хочу помириться, хочу дать себя им – прощались чтоб,
вы такие смешные, особенно тот, кто измылился.
Занесённая в список я чёрный, но словно бюстгальтеры,
не подходят размером: из всех декольте пру, из вырезов.
Из меня можно прошлое вылепить в будущем трафике,
в невозможно пронзающем! Как сказал вещий учёный
то, что люди без памяти – люди планшетов, смартфонов,
то, что с памятью люди – заносят в альбом фотографии.
Загадай мне четыре загадки, чтоб чуда достигнуть мне!
Это чудо Всея Руси, чудо осенних растений.
Нежность рыжая. Солнце высокое. И скоморошество синее.
И рыдающая всех лесов невозможность мгновений.
Кто не гений в пятнадцать? Все – гении! В тридцать проходит…
В тридцать семь понимаешь: людей, птичьи их колыбели.
И затем всё, как водится – снег, колея, непогоды,
и попросишь морошки, что следует после дуэли…
***
У меня есть собака, а точнее есть пёс,
я его целовала в чёрный плюшевый нос.
Убегал, непослушный, срывался с цепи,
Лаял так: прямо душу
выворачивал!
– Спи!
Чёрный, гневный, лохматый, ел он всё – даже хлеб
с майонезом. Дай лапу!
Он давал сразу две!
…вот лежу я в сугробе. В белой шубе лежу.
Вою: «Боженька, дай мне пережить эту жуть…»
Ну, достали, достали…не могу…столько лет…
Из меня вырастали – из больной, как скелет,
эти травы из стали, так Голгофа растёт,
из меня вырастали солнце и неба свод.
Я ползла по сугробу: пальцы сжали снег, лёд.
(Я не знала в те годы, что спасенье придёт.)
И он лаял, так лаял! Словно пел коростель,
песня-крик, песня-омут, песня-сказочный Лель.
И послышалось мне поутру, поутру,
коль бессильны врачи, за тебя я умру.
Но ему я сказала: «Бежим!» Мы вдвоём
побежали, проваливаясь в снег густой.
И осыпалось солнышко за окоём.
Залезай, пёс, в машину, поедем домой.
(Есть такое местечко, кто знает маршрут,
там, где Ольгинский пост в Арзамас скользкий путь,
есть деревня Елховка, правее вот тут,
там Целебная Горка, ложись ей на грудь!
И все хвори исчезнут, растают, пройдут.)
Там ветра из Голгофы, разбойный сквозняк.
После взял пёс, состарился, что же ты так?
Погляди, я не старюсь – косметика, крем,
не курю и не пью и немного я ем.
И ни как ты – картоху, хлеб, сосиску вразброс!
Ты мой пес. Мой собака. Мой плюшевый нос…
***
Расскажу, как обещала, виденное воочию,
здесь трава-мурава, берега кисейные, реки молочные,
как бы ни диета – брала бы себе молока,
натирала лицо бы я, шею им, грудь и бока,
Маяковский сказал, что красивый, ему двадцать два,
а мне около ста, я иду, я красивая тоже,
как Владимир Владимирович, как трава-мурава
как река, что кисель, молоко да творожник.
Раскудахтались: Россия такая, Россия сякая, Россия есть дно…
А хотя бы и так – я люблю её дно небоскрёбное!
Дно небесное, синее, дно что льняно, что рядно.
Перекрёсток с распятием словно единоутробные.
Да, у нас и купель-то одна, и вода одна: прорубь холодная!
Гроб Господень, один Сталинград и неотданный Ржев,
и старухи на лавке сидят, мужиков вспоминая,
как у той Пелагеи убит в бой последний уже,
как у той Октябрины убит до победного мая.
А хлеба-то, хлеба из муки, из яиц, из сметан.
Вы таких не едали – ни в Спаре, в Пятёрке, в Магните!
Не деревня у нас. У нас город и Кремль – великан
красно-красный и красно украшен, свидетель событий.
Здесь никто не спивается. Некогда пить, кушай лишь!
В Воскресенске – воскресни!
В Варнавине – вора не встретить!
А на улице Громкой такая неслышная тишь.
На Свободе – Дом занятости, на Зиме нынче –
лето!
Совпадаю я с веком, как с мужем: еда-секс-постель,
говорят, что век трудный, что нервный, неверный, угрюмый.
Да, конечно, такой. Но он мой! Он безудержно юный,
как утроба, как жизнь, как вода, смерть, купель!
Ты уехал, чего же ты пишешь сюда, Габриель?
Ты уехал, зачем просишь премии – дайте?
О, какая здесь цветь!
О, какие ваниль, карамель!
Ничего я не дам! Ибо – дно!
Дно проткнёшь, и там – злато!
***
Хочешь, распни меня вместо всех тех,
кто был распят – вор ли, Бог, проститутка.
Дождь по щекам. Дождь – он из антител
против ковида. На грани рассудка.
Сделать крещённей, когда на кресте
разве получится? Лучше без лести.
Больно ни эти мне сделали – те,
больно ни там, ждали где, в другом месте.
Шепчет разбойник:
– Я верю тебе.
Шепчет, как будто кричит оглашено.
Каюсь, я каюсь, я – немощь теперь,
грешен я, слаб, слеп и глух во вселенных.
Слаб, хоть есть мускулы, череп и мгла,
слеп, хоть я вижу на двести процентов,
глух, словно муха, улитка, пчела,
самый я немощный,
самый я серый.
Гришка твой. Грешный твой. Небо рябое.
Да, да, тот самый из шерсти и боли!
…Песня про яблоко катится, катится,
песню пою, значит, всё же живая?
Дай мне очнуться – твоей служке, пятнице.
Эти позвали.
А те не позвали.
Звон,
звон,
звон,
колокольный мой звон,
о, я тоже художник: встраиваю полотна
в эту систему «Россия-вагон-
поезд-большой чемодан самолётный».
По тебе этот звон.
Иль по мне этот звон?
Буду каяться в том, что я сделала,
хоть не сделала каяться буду вдогон
тем, кто чёрен. Что каяться белым мне?
***
Причаститься! Предательств уже не боюсь.
Причащённая, чистая, словно помытая,
там, где были ранения всех недодружб,
там, где рытвины, всполохи, как инквизитором,
что повёл на костёр. Возжигались огни.
До сих пор пахну гарью, обугленным мясом.
Мне все щёки Иудушка твой обслюнил
в сне анфасном.
Устаю своих Каинов-братьев считать.
Этот камень схватил.
Этот в пустошь подался.
Этот клялся на весь прорифмованный чат.
Этот – Карлсон.
Солнце режет мне зренье, в полоски сечёт.
Щурюсь! Мне, причащённой, всё горькое – сладость!
Всё колючее – мягким мне кажется.
Ядом
раньше даже вода была, солоным – мёд.
А теперь всё – дорога, что ходом, что пеше,
и овалом мне, кругом – мой угол медвежий.
Будь же также причастен, обласкан, занежен,
я из личных своих словно бомбоубежищ
выхожу под обстрелы, под небо, под свод!
Это как после казни, когда не казнили:
передумали! Прав не лишили – промилле
было ноль и шестнадцать, спасибо, латынь!
По мосту я иду, мост, как шкаф со скелетом.
Нынче всех я люблю, даже слабых поэтов,
исчезающих этих святынь.
С ними пью брудершафт, им даю своё горло.
Им в ладони я – сердце. Да что там в ладонь,
им – под ноги, под тапки, под солнце, под вёдро
проведён
здесь по кругу по первому и по второму
ток заместо невымерших строчек и строф.
Осветлённая, выровненная, солому
ни к чему мне стелить! Путь обратный с Голгоф,
как под горку! Как с виселиц, коли верёвка
обломилась. С кусочком на шее – иду!
С синяком во всю душу! Как божья коровка.
Мотылёк. Стрекоза. Я уже не плутовка,
не воровка, не падальщица, не дешёвка.
И сама я свою добываю руду.
Если надо сама поцелую Иуду,
поднесу своё тело ему я ко рту.
О, как худо мне было. Но сплыло. Уплыло.
Словно воду я пью, где в песке, в лоне ила
полыхала звезда умирающим светом,
этим обмороком, этой болью и смертью.
Вот и всё. Её нету.
***
Это даже не девяностые лихие,
а семидесятые колдовские,
мне на вид лет пять-шесть,
не тащи меня в лес, серый волк, волчья шерсть.
У меня столько дел: спать, пить, есть!
У меня столько дел – ромашки, букашки,
я «секретик» делаю из стекляшки,
закапываю в яму под жёлтым мхом,
чего только нет там, разуй глаза, -
лист, пёрышко, пух, мёртвая стрекоза.
Даже Дарвин позавидовал бы, но тайком.
Вот папа, вот мама, мой пёс – носик плюшевый.
Актриса, озвучившая Каркушу и
ну, скольких, скольких она озвучивала
мишек, плюшек, есть даже пират.
Семидесятые годы – горн, флаг, как факт!
Годы целебные, годы волшебные, ни «тик-ток», ни «тик-так».
Хлеб, конфета, пломбир – постоянна цена,
словно вид у окна, под окном, из окна,
ни братков, ни расстрелов и ни пахана,
и дорога ясна, и видна, и полна,
и пшеничные полосы, взгляды до дна.
Ибо прямиком смотрят в семидесятые,
жизнь вся светлая, белая, не полосатая,
жизнь – она не аптечный тест,
волк не утащит ни в поле, ни в лес.
Ты разве не знаешь конец этой сказки?
Бычок качается.
Лапа отрывается. Но не брошу: дальше тащу!
И как вдруг по таким нам – нежным, – что кости, что мясо,
верящим напропалую да по хребту, по хрящу?
Слова-то какие странные – перестройка, Горбачёв, Ельцин!
Друг Буша.
Ножки Буша.
Ногти Буша.
Тельце.
Я вообще-то хочу про Каркушу,
более вовсе не стану я слушать.
И мячик, что скачет вдруг к речке, ко рву.
Я понимаю – не будет иначе. Тогда не ревела. Сегодня реву.
***
На Покрова Богородица кутала нас в покрывало,
накрывала,
убирала «сытый голодного не поймёт»,
«глухой – слышащего»,
«слепой – зрячего». Всех понимала.
Вот пью я воду пресную – а в гортани сласть-мёд.
Изменение вкуса, цвета, запаха, как истории,
нет, нет, не ковидище, а иные перемещения.
Не выметай этот сор из избы: сор мы строили!
Из него рост стихов по-ахматовски,
дщерь моя!
Услыхала, Исполнена Слуха, накрыла, припрятала.
– Ой, тепло ль тебе, девица, право, тепло ль тебе, красная?
Воскресающих птиц – чаек, соек, овсянок да ласточек,
гречневик надевает над всеми, как будто поярковый.
Васильками украшен он, лентами, перьями поверху,
а ещё Богородица плащ сверху рядит малиновый.
И тепло-то мне, девице,
и хорошо-то мне, милые!
Словно шубой замотана, словно накрыта я дохами!
А тебе, о, София, тебе, о, благая, тебе-то как?
Стали раны багряные свет отражать в небе сотканы?
Вот и понял голодного сытый, молчащий внял глоткою,
замерзающий – жаркостью,
тонущий тех,
кто был лодкою!
И все фразы, которые тихие, стали вдруг важными,
и болящее сердце моё стало, словно спортивное.
Ибо самое высшее – сутью, что малоэтажное,
и дома осыпаются мне под ветрами квартирами.
Накрывает Лилейная, Чистая, плачу от радости,
накрывает телесно, до темечка:
– Дева, возрадуйся!
И качает меня, как дитяти, наивную в младости.
А уста сами шепчут, уста мои шепчут:
«Пожалуйста!»
***
Настасья, Настасья, настала пора,
по батюшку-Киеву ты мне – сестра,
сестра ты по матушке-граду Москве,
по Нижнему Новгороду – на – он твой!
Красивый такой.
Величавый такой.
Град-Горний – так Бильченко Женя зовёт.
Она мне – сестра! К нам вставай в хоровод!
Ещё есть сестра – помирились вчера!
Она мне сказала: «Иди, вот я! Здесь!»
Она мне желала не зла, а добра,
и сердце рвала –
я глухая была.
Она мне тянула Голгофский свой крест.
О, руки её! Ты видала в упор?
Вот так обнимать могут только сестёр.
Вот так целовать могут лишь васильки,
на мне платье синее – цветом под стать.
Ты знаешь, как может сестра целовать?
Ты знаешь, как может сестра обнимать?