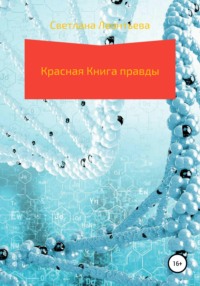По берёзовой речке
Имя Зоя, как небо. А вы про медали, про гранты.
Имя Зоя – сама, словно грант, словно купол высокий!
Вы забыли про это. Вам в мозг что ввести? Импланты?
Про какое вы там примиренье? Они – оккупанты,
что пришли нашу землю топтать, никаких аналогий:
про гулаг и концлагерь. Про Гитлер и Сталин. Не надо.
Это разные вещи. Иные координаты.
Говорит либерал: «Ничего нам за это не будет.
Примирим мы всех мёртвых. Ведь им всё равно там, в могиле!»
Я схватила такого бы да за пиджак там, где груди –
рвись, рубаха, летите вы пуговки в пыль и
никогда, ни за что! Никаких вам таких словоблудий.
Где всеобщий психолог, чтоб мозг излечить бы, изгибы,
извращенье истории и русофобские игры?
Чтобы наше святое не трогали пальцы кривые,
не совали в кровавые раны, не лезли бы в семьи,
в наши кухни и спальни. Мы те, кто безмерно живые,
нас не сломят, ни в спину проклятия, что ножевые.
Ибо деды у нас воевали. И мы словно с ними!
Вот солдатик молоденький. Мальчик совсем он, мальчишка,
а вот девушка – милая, славная, столик и книжка.
А вот женщина и вот старик – было время.
Их убили фашисты. Фашистам не будет прощенья!
Никогда не помирятся. Мы вам не братья, не братья.
У фашистов одно есть названье: низвергнутый в ад он.
И не надо из ада его возрождать, о, не надо.
И не надо ни с кем примирять. И ни с тьмой, ни со светом,
вглубь планеты его иль совсем позамимо планеты.
…Как же редко я в церковь хожу. А сегодня пойду я.
И за деда свечу я поставлю. Ах, дед мой, Артемий!
Он убит в сорок третьем. С мальчишкой, старухой со всеми.
Как же я помолюсь за него, в пол воздета!
И сквозь слёзы, шепча так неистово:
– Дедушка! Деда…
***
…им, отдавшим за нас жизнь,
им, израненным в гулких окопах, идущим на смерть,
им, кричащим из-под земли, что фашизм
был низвергнут, что был побеждён. Как теперь
объяснить то, что памятники, что скульптуры войны
снесены в городах: в Львове, в Талине, в Праге. Как так?
Как рука поднялась? Вы за что их, за что, пацаны?
Впрочем, слово иное нужно здесь, иной нужен знак.
Слово «зверь», слово «нелюдь». Очиститься, как нам от них?
Как нам правду свою отстоять, правду дедов своих?
Вот бы встали они, вот бы встали они из могил,
вот бы снова, кто в танке сгорели, из пепла взошли.
Кто на мине подорван, тот снова бы сросся, скрепил
в своём теле бы швы, вот бы встали они из земли.
И пошли бы они, и пошли бы они, и пошли!
А звонарь бы на вече позвал, зазвонил! Вострубил!
Журавли бы на небо взлетели, всех их – журавли!
Во все тысячи тысяч, во все миллионы их крыл!
– Ставь на место! Впаяй! Вознеси. Там, где были, оставь.
Ибо трогать сакральное, ибо сносить память – грех.
До семи колен грех! До потомков своих грех, как явь!
Всех на место верните солдат, всех снесённых, всех-всех.
И всех маршалов, воинов! Каждого, кто умирал.
Каждый камень снесённый, цветок каждый, мемориал!
Вот читаю, читаю фамилии…
Сколько глаза
мои зреть могут! Что у черты, до черты и что за
эту слушаю музыку, гимн, песнь и скорбный набат,
у кого дед погиб, у кого сын, отец, мама, брат.
Я без слёз это слышать совсем не могу, как вокзал
я наполнена – душу мою разрывающей жуткой волной,
и всё чудится слово прощанья то, что дед сказал
моей бабушке, что с семерыми осталась весной.
Что же думало небо, забравшего да от семьи
не подросших ещё, не разумных детей всех семи?
И остались по линии мамы бабьё да бабьё,
словно нить жизни сорвана напрочь, разъята насквозь,
всё мне кажется то, что помочь я могла бы всерьёз,
то, что детям внушу – это русское племя моё!
Залаю на небе все дырья, заштопаю их.
Не хочу, чтобы зло побеждало, хочу, чтоб добро!
Тихо, тихо-то как, вспоминаю когда я о них,
громко, громко лишь сердце стучит мне левее в ребро.
***
Не женись, не женись, Данила-мастер,
высекай свою каменную чашу.
А коль женишься, ты же поэт, то разве
возлететь ли в твою, где берёзы, мне чащу?
Разодрать ли грудь мне да об острую ветку?
Да сронить ли мне перья на мягкие травы?
Как узнала про весть твою, пью я таблетки,
запиваю я горьким настоем купавы.
Многим головы вскружены, многим вскружила,
многим, кроме тебя! Не женись ты, Данила,
мой кудрявый!
В этот сонник и в донник, да в топи-муравы,
да ещё в клеверах, да в медовых соцветьях.
А коль мастер-Данила женился, то, право,
ты мне душу не рви по ночам до полтретьего
никакого Карнеги, ни Фрейда, а разве что
пару строк от Данилы (Данилушки-мастера).
У поэта судьба: по постелям шататься,
у поэта судьба: пить в кафе, всклень спиваться,
у поэта судьба: нож да к горлу бесстрашно
графомана, себя возомнившего гением!
Эвон сколько их! А для поэта – горение
и парение! И твою песню мне слушать
так, чтоб душу мою – в решето.
Хочешь, рыбой
приплывать буду в руки твои? И на суше
становиться русалкой? Иль птицей? Иль глыбой?
Чтоб из камня тесал ты меня: грудь и лоно,
руки, голову, губы! Впивайся! Глотай же!
Сколько было мужчин безнадёжно влюблённых,
было, кроме тебя, не влюблённого даже!
Лучше прямо из камня ты режь свою чашу!
Да узоры по краю: ласкаться устами
к твоей чаше. К тебе не получится, знаю:
мне с женатыми дело иметь не пристало.
Не женись, не женись, ах, Данилушка-мастер!
Твоя суженая старше нас на столетье.
не родит она малых сомят, в белой пасти
сохранить много слов не сумеет, поверь мне.
Впрочем, лучше не верь, не суди, не встречайся
на твоём Гребешке, возле дома тринадцать,
под землёю, я слышу, Данила, мой мастер,
голова ты кудрявая! Бьётся, что ястреб,
разве только окрасом светлее да вихрем –
подержи за крыло – бьётся там соловьиха.
Тихо. Тихо.
И я помолчу.
И как в сказке,
так кончаются сказки от мала-велика.
На той свадьбе и я была – их или ихней,
как филолог считаю, что их! И пиррихий
отличив от спондея – ты очи не засть мне!
Я сама их зазастила, слёзы – что камни!
Пусть из каждой слезинки, Данилушка-мастер,
пусть из каждой росинки – узоры на ткани!
Мастери свою чашу! Большую, что космос!
…Я бы голову да на плечо, где рубаха.
(Но нельзя на плечо, там мне дыба и плаха!)
Мне достаточно запаха, слова, хоть лоскут.
Всех женатых прощаю. Всех, кроме тебя я.
Всех, кто спился, скололся – поэтово семя.
Всех, кто жаждал красавиц, в постели таская,
Да и я-то, я не соловьиха какая,
просто баба живая. Прошло моё время!
Да и речь обо мне не идёт. В персонажах
я не числюсь, ни в памяти, в номенклатуре.
Не женись ни на ком!
Вообще!
Этой блажи
недостоин бессмертный де факто, де юре.
***
В колыбели из бересты, в люльке-качалке
по берёзовой речке плыву и плыву.
Не могу сдержать слёз, а точнее едва ли
я их сдерживаю. А подол о траву,
а точнее трава о подол – цепко, хватко,
так зубами цепляются, когтем, рукой.
По берёзовой речке, по лесопосадке,
я без этих берёз сирота сиротой.
О, как грудь мою рвёт ветер, переполняя,
обжигая, вскрывая, что правду, что суть.
Лодка-люлька – туес, как малина лесная
я лежу. О, я сладкая, пей меня всю,
в горсть бери! Мир заплакан росой и дождями,
мир зарёван, завернут в тугую парчу.
Из себя я своё, словно соки тащу,
как берёза, истерзанная топорами.
О, Мария, нет, я не терзаюсь. Я лишь
поняла: жизнь моя быстротечна, конечна,
жизнь берёзова, травна, цветаста, сердечна,
оттого ты из каждой берёзы глядишь!
О, Мария, на каждом цветке ты, на ветке,
нет, не так, как Иуда, что любит осины,
что продался за эти скупые монетки.
Неужели так можно, спрошу я, так сильно?
За берёзы я небо ломала, за крылья,
за берёзы сражалась – леса их и рощи,
за карельскую, карликовую, чьи мощи
хаял мне безголосый, черешневый дрозд.
Моих слёз бы хватило на сотни берёз,
чтобы в засуху их поливать вместо гроз.
Мне без них – ад, тюрьма, невозврат, дверцы морга…
По берёзовой речке плыву долго-долго
до высоких словес, до распухших желёз.
Очищаюсь: сосуды, вся память, вся жизнь,
очищаюсь: я – лиственная, я – прощённая.
Для кого-то, как ночь я – ненужная, черная.
Для берёз я – белейшая,
только коснись!
Святая Зоя
На казнь своего непорочного тела,
и кости ломали невинные, девичьи,
и ноги кромсали. Всё тело болело.
А в ранах птенцы словно плакали пеночки.
Фашни было много, она в одиночестве,
сказала лишь имя «Татьяна» без отчества.
И больше ни слова. Огонь разжигался так,
и больше ни слова про месть партизанскую.
Деревни, деревни, там бабы с детишками,
фашня забрала всё, всех кур, живность разную.
Сидеть надо тихо, не слышно, не слышно нам,
как Зою пытали, как жгли безобразно как.
Но сколько лет минуло: крик над деревнею,
он родину нашу на нитке удерживал,
и если ты выйдешь однажды в переднюю,
и если не выйдешь, услышишь, как стержнями,
как сваями крепкими, словно бетонными
её голос хрупкий мир держит упорами.
О, золотко, девочка, милая, честная!
О, сколько ты вынесла, стала ты песнею,
ручьём, что с живою водою калиновой
и солнечным ярким лучом над рябиною.
И птицей, той самой упрямою пеночкой,
что в ранах вила свои гнёзда уютные,
и кости скрепляла разбитые девичьи,
и вечность свою вознесла над минутою.
Могла бы, я сердце своё перебросила
тебе бы!
Из нашего мирного времени.
И тело своё отдала без вопросов бы
за родину нашу! Оно неотъемлемо
от Зои!
Я девочек бы называла, как Божие
всех именем Зоя, как высшее, сильное!
Ужели возможно все это, возможно ли
все пытки, все страсти снести и насилия?
А Зоя снесла. О, мне в руки патроны бы
и пальцы не дрогнули, право, не дрогнули!
Эй ты, кто насиловал, а после фоткался,
эй ты, гитлерюга, кто вешал, иди сюда!
Тебе бы в лицо – кислотою и хлоркою,
тебе бы яйцо поскоблить зернотёркою.
И ты, кто приравнивал Сталина к Гитлеру,
одна вам дорога – всех в ад стеклобитовый.
Поэту не только лишь песни да творчество,
поэт может многое, кроме пророчества,
поэт может в бой,
как солдатик простой.
Поэт может в поле сражаться за правду.
Огнём и мечом.
В визг, в разрыв, в канонаду.
Я тысячу раз злу давала отпор,
мне Зоя глядела звездою в упор…
Бессмертная Зоя! Вздымаются руки.
Святым выпадают вселенские муки.
Попробуйте только: здесь наша победа!
Здесь наше огромное, наше святое!
Встаёт из-под черного гравия Зоя
и ртом обожжённым: не смейте про это,
фашизм не пройдёт, ваше вшивое гетто.
***
Если лошадь, то хромая, если вишня, то зимняя,
если теплоход, то «Булгария», если поле, то Ходынское.
Засеваем телами планету: тюльпаны – мы, розы – мы, ливнями.
Отношения – рыночные. А где же оно, право Римское?
И где же она справедливость? Спасение?
Не могу говорить спокойно. Могу лишь плакать…
Я уста раскрошила в такие моления!
Уронила себя всю, как есть, на колени!
Как дальше нам жить? Там, в дыму саркофага?
В топке людской. В трюме подводном.
В Невском экспрессе. В Норд-Вестовой тьме?
Или неужто, виновным – свобода?
Стрелочник – в камере.
Пешка – в тюрьме?
Жадность, халатность, мздоимство, сутяжность,
и – за презренный металл жизнь людей!
Сына у матери скрали! От кражи
кто стал богаче, спроси у судей…
Катимся в пропасть! В исчадье! В потраву!
Все на колени – кто прав, кто не прав.
Пальцы дрожат мои – Римское право.
«Жить мы хотели!» – я слышу сквозь сплав.
«Жить мы хотели!» – я слышу сквозь небо.
Чёрное солнце сквозь, брешь кораблей.
Сквозь кирпичи.
О какое плацебо,
выпить микстуру от зла на земле?
Чтоб не пила, чтоб ни съела – всё яды!
Гари! Дымы! Распродажная власть.
Вновь в книгу Мёртвых нам вписывать рядом
сотни фамилий. А мэр будет красть,
и набивать олигархи карманы.
Всё. Не могу. Шрам на шраме! На ране!
Как же так низко-то можно упасть?
Вот я теперь состою вся из пепла,
вся я из пламени, взрыва, отрав.
Где же ты есть справедливость? О, где ты?
Римское право, управь!
***
По белому стволу, по веткам, листьям, почкам,
ой, какой ветер, невесть откуда гроза какая.
Ощущаю всю землю – у меня берёзовый позвоночник,
и бежать-то мне некуда, вросшие, не убегают.
Вросли позвоночниками берёзовыми
так, словно мы продолжение космоса.
Мне талдычат: здесь плохо, но как под наркозом
под воздействием эпоса, пафоса, логоса.
Умирать, так живою, не умершей, сбившейся,
с вечно съехавшей крышею, горем убитою.
У меня позвоночник берёзовый высится,
у меня миокарда вся сплошь алфавитова.
У меня под берёзой –
отцовые косточки,
у меня под берёзами деды схоронены.
Как могу я оставить их?
Первоисточники
для меня они – родненькие под бетонами.
Я берёзы их глажу – шершавую родину,
прижимаюсь к стволу, обнимаю руками.
Сердце торкнется вдруг: словно кто-то вдруг камень
в моё истинное взял и бросил сегодня.
Не оставлю я их, хоть мне трудно порою
отбиваться от тех, кто несчастья мне кличет.
Там под кожею, проще сказать под корою,
словно Чехова «Сад» вырубают мне лично.
Помогите, пророки мои, мои корни,
мои в люльке-качалке сестрицы-берёзы,
дед Иван, дед Артемий и всех непокорней
моя спившаяся (умерла с токсикозе)
всеблагая свекровь. Здесь берёзы, берёзы
на Гнилицком погосте, что возле Вереи,
вьются бабочки, ласточки, пух и стрекозы,
ибо наши умершие – живших вернее!
Оберегов надежней, молитвы, камланья.
А ещё баба Шура и бабушка Анна.
Я за всех вас молюсь: кто с верёвкой на шее,
кто от тяжкой болезни сгорел, утонул кто.
Мой берёзовый лес весь исходит от плача,
не боюсь я охайников, тычущих глупо
в мою белую спину, могу сдать я сдачу.
Но на ненависть я отвечаю любовью
на отъятость и на неприятие прочих.
Ибо бредит берёзовой сладкой любовью
и крепчает берёзовый мой позвоночник!
***
Когда меня причащают, то слёзы,
точнее слезинки, две маленьких капли
они наворачиваются: вкус яблок
и сока, как будто из белой берёзы.
Меня причащают, меня очищают,
под белые руки ведут на причастье,
а там всё равно, я богата, нища ли,
талантлива, счастлива или несчастна.
Меня причащают берёзовой родиной,
меня причащают путём моим пройдённым!
Меня причащают, о, милые, милые,
убитым поэтом Борисом Корниловым.
Меня причащают навеки, взаправду так,
как будто пред смертью, как будто пред жизнью.
На мне платье белое в крапинку, мак
цветёт по подолу анисом понизу.
Немного похожа на флаг моя юбка
(ты как-то шутил, что я в ней – правдорубка,
и что со мной сделают, что не помилуют,
как будто с поэтом Борисом Корниловым!)
От зависти, злости,
ах, бросьте вы, бросьте,
от чувства соперничества, превосходства!
…Поэтовы косточки там, на погосте.
Как душит меня больно чувство сиротства!
Ну, что?
Разглядели во мне, в каждой фразе:
о, как она пишет, что за безобразие.
А есть ли там сердце в груди – сердце волчье?
Не им ли глядит она, выдранным в клочья?
Не им ли рыдает отчаянно, горько
огромной звездой одинокого волка?
А я здесь на родине в граде-Семенове,
и камень мне лёг в мою грудь оголённую
на место, где сердце когда-то стучало,
на место, где свято почти что столетие.
Так много, что страшно!
Так много, что ало!
Где сердце стучало – пучки во мне света!
Огромные, нежные, точно святые
причастия, суффиксы и запятые!
Убитых убить не получится дважды.
Воскреснуть – одно есть всечасное свойство.
Меня на причастье ведут.
Все мы ляжем…
Лишь книги сиять будут. Книг наших бойся!
Стихов наших бойся! И образов бойся!
Куда б ты ни бился, в пустотах рождённый,
в пустотах, в пустотах стеклянных гружёный.
Одной пустотою – словестный свой мусор
оставь ты в избе! Пустотою укусов!
Выводят меня, но уже причащённой,
и в руки – просвирку,
в уста – ложку с мятой.
Молчу – причащённая, чистая, сильная.
Меня причастили Борисом Корниловым
в его день рождения двадцать девятого!
***
…могилы:
вот глинозёмы, лебеда, чабрец, мята
да курослеп.
Прости, что я походила
(ты, там – в глуби!), я то рукой, а то пяткой.
Иначе как же мне прибрать? Как порядок
мне навести, стакан как вылить мне водки?
Могильный холм похож на луковы грядки.
Но есть могилы,
что как будто сиротки.
Они заброшены, забыты, полынны.
Наскочит сердце на такие,
что мины
они взрываются своим запущеньем!
(Перед такими я встаю на колени!
Полю на них я сорняки-чертополохи…)
И также ходят между трав выпивохи
и собирают: хлеб, конфеты, печенье.
Там чьи-то кости, позвоночники, колени:
миротворение сильней, чем боренье.
Итак, к тебе или ко мне на могилы?
Мой первый муж схоронен в граде-Свердловске,
моя подруга: её косточек горстка,
моя соперница – по ней я ходила,
но не нарочно: сорняки виноваты,
они росли угловато, горбато.
В начале кладбища на входе – прижаты
«братков» могилы, да певцов, да магнатов.
Кого в машине, а кого-то в подъезде…
Скажи, к тебе или ко мне канем в бездне?
Я всех оплачу: слёзы лили и лили,
свои оплачу – все родные – могилы.
Отца и деда, мамы, тёти и дяди.
…А у отца-то много радужных лилий,
у мамы бабочек, стрекоз быстрокрылых.
О, как вы здесь да без меня, своей «чади»?
Вот снятся, снятся нашей улицы тропки:
приехал папа да из командировки.
Он маме Павлово-Посадскую юбку
привёз! Такую в клёш всю и расписную.
Привёз он деду деревянную трубку,
привез сестре тогда он куклу большую.
А мне-то что? Мне, не родившейся, в чреве
у моей матушки, мне – пятинедельной?
Халвы да масла? Помню – был понедельник,
и помню маму, всё на самом-то деле.
Ещё корзину из лозы, помню, ивы,
в таких приносят в клювах птицы младенцев!
Да! Будут, будут все навеки хранимы,
вот деться бы мне, но из детства не деться!
Моя шершавая ты, родина родин,
моя корявая, но всех-всех ты лучше!
…Кладу ириски на могилу я тёте,
кладу печеньки папе-маме до кучи.
***
Моя прабабушка из дальней Сибири,
ох, семерых детей она поднимала.
На лесосеке, на медовой псалтыри
она писала про пчелиные жала
большую книгу «Яд и польза трёхядья»:
стилет (от Брутова стилета – убийцы,
который в спину цесарёву вонзится,
дитя, не смей, дитя, о, Брут мой, не надо!)
Мой дед играл на балалайке, коль выпьет,
отец мой строил комбинат в Красноуральске.
Служил он в Чирчике – лучами умытый,
старинный город весь цветущий, весь райский.
О, сколько раз нам гимны пели куранты,
вы, вправду, верите, что мы оккупанты?
Отец от горькой кислоты медно-серной
к сорока двум своим годам задыхался,
на Белоярской взрыв был атомный первый,
кружились листья в стиле джаза и вальса.
Рожали женщины: кричали и выли,
такое свойственно сиротство
атлантам!
Вставать из грязи, возрождаться из пыли,
и всем семейством из холодной Сибири:
совки да вата – шли мои оккупанты!
Бельишко, платья да сандалии только,
на небе Сириус – звезда наша – волка,
и красный купол, и Свердловская стройка.
Нет, ни ампир, ни классицизм, ни барокко,
а трубы медные Эльмаша, Тяжмаша.
Затем по радио: Достроили! Финиш!
Конфеты «Ну-ка отними», мультик «Маша»,
я – оккупантка, фиг назад, что отнимешь!
Все деды – воины и в гипсе, и в бронзе…
Кидаюсь к спискам я, на кладбище если,
на камне высечены все наши песни,
сто Ивановых, сто Васильевых. Возле
я каждых списков, и Девятого мая
глотаю слёзы, я давлюсь, но глотаю.
Меня зовут и зовут в небо птицы!
Ещё, ещё…я не могу остановиться.
Ещё фамилия.
Да отчество.
Да имя.
И не достать меня из прадедов. Не вынуть.
Я Ивановых да Васильевых фанатка
убитых пулями, повешенных, казнённых.
Такая вата – я, совок, оккупантка,
из двух фамилий род составлен мой, сплетённый,
в нём есть художник, хлебороб, певец, учёный,
как оторваться мне от списков, от колонны?
…Уколет в сердце: под землёй гранитной кости.
Вот лечь бы в травы мне обнять всех, прижаться!
Сквозь пласт земли,
сквозь эти гвозди,
эти доски
благословенно будет ваше оккупанство!
***
За пределами времени, вне его, внутри бессмертья,
глаза мои, не отвыкшие от детства ребёнка.
Вот назвала же какая-то нас бестия
страна, мол, бензоколонка!
А моя бабушка из того самого места,
из того полушария Сибири, где всё начиналось,
я-то помню: вырубить сколько леса
всей бригаде – план. Всей бригаде усталость.
Раньше было иначе. А в Санкт-Петербурге,
если верить истории, углем топились.
Моя бабушка – не Гумилёвская или
не Ахматовская – костью крепче и шире –
хлеборобка, ткачиха. Ей Чехов – на вырост.
Но она из тех мест, где повздошье Байкала,
где просторы до слёз, где слепнешь в три ока.
Там, где кости моих предков время объяло,
вытекает неистово бензоколонка.
А мой дед щёки в чёрное золото мазал.
А на ощупь оно маслянисто-густое,
пахнет так, как мешок сердоликов, алмазов,
а травою и клевером и сухостоем,
во лугах, во полях, возле гор крикнешь громко,
как в колодце – такая вот бензоколонка!
Как, не знаю, иных, участь их миновала,
были все мои деды за красных, будённых,
А отец на учёбу в вагонах гружёных
уезжал после школы в предгорья Урала.
В телогрейке, в ушанке да в брюках суконных,
а в кармане лишь рубль, да и тот умыкнули.
Вот обнять бы его да воскликнуть: «Папуля!»,
как тебе возвратить жизнь? В каких мегатонных,
у каких помолиться святейших икон мне?
И какую мне песню пропеть втихомолку,
как мне мама певала про серого волка?
Да про самого-самого-самого страшного,
да про самого-самого-самого серого!
Как он шёл по Сибири всей стаей, как башнею
вся страна вырастала! Спою я про волка,
чтоб меня понимала ты, бензоколонка,
чтоб меня обнимала ты, бензоколонка,
чтоб меня целовала, как матушка, звонко
в мой парной, в мой молочный дитячий затылок!
Я на век, на бессмертье, на жизнь налюбила
нефтепровод, газпровод и токовый провод!
Был повод!
Потому, что любовь. И любови законы.
Потому, что волчок да медведь косолапый.
Потому, что он
самый,
он самый,
он самый,
потому, что о них мои мама и папа,
потому, что смотрю я – глазами ребёнка.
Потому, что я тоже чуть бензоколонка,
потому, что я тоже чуть двигатель вечный,
ток, подстанция, трубы и мозг в оболочке.
Если что – вот вам спичка: взорвусь – покалечу
тех, кто против,
отцовая дочка!
***
…Вот и верь после этого толпам поклонников,
вот и верь после этого, кто свои в доску!
Почему застрелился поэт Маяковский?
Что же, что же наделали, миленький, родненький,
кто отлил эту пулю трибуну и моднику?
Видно слишком любили, что в сердце убили,
а теперь всё метро изгвоздили под куполом,
ах, Владимир Владимирович, а камни рупором:
там вмурованный крик изо всех сухожилий.
Одиночество – это не листик на ветке,
если не понимают, не станут, не верят,
у империй свои есть законы империй: