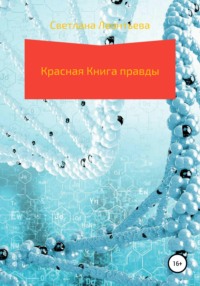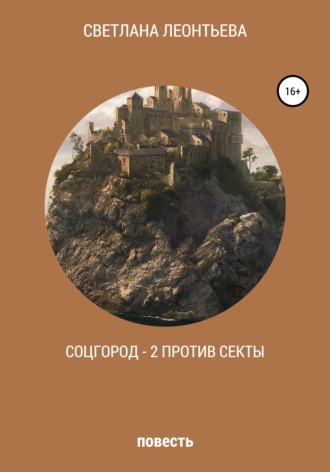
Соцгород – 2 против секты
Нестор пролежал в больнице около месяца. В полубреду. В бессоннице. То ему снилось детство. То юность. То Полина. То ягоды и Мниша, которую обижали мальчики. Затем её обидел юноша. Муж. Зять. И лишь одна песня нескончаемая – жалостливая, болотная могла спасти всех:
«Был похож на Фантомаса
одноклассник мальчик Вася,
он писал у нас в подъезде плохо про девчат из класса.
Вася рано стал ширяться, нюхать, плюхать, пить вино.
Он сказал в подъезде:
– Здрасте.
И позвал меня в кино.
«Фантомас разбушевался», «Фантомас разбушевался»,
все любили Фантомаса. Это было так давно!
Наш любимый фильм простецкий. Он и детский. И не детский.
Он скорей всего, советский,
пахнул розовой травой
и селёдкою под шубой.
Помню снег: из ниоткуда.
Но не с неба. Снег – живой!
Вот дворец с кинотеатром, очередь, что неохватна
глазу, словно в Мавзолей. «Фантомас разбушевался»,
я стою, но где же Вася? Ни в проходе, ни на кассе…
Десять радужных копеек, чтоб усесться. Ряд скамеек,
окрик, эй, подвинься, брат!
Во сидит соседка Оля, Вера, Ваня, Петя, Толя,
нас потом в церквях отмолят
наши бабушки. А в поле
снег! Он шёл – такой большой!
«Фантомас разбушевался»… в спину больно, мальчик Вася –
вдруг толкнул меня ногой.
Не на камень я упала, в кровь разбившись вусмерть, ало,
не упала – воссияла,
не разбилась – ввысь попала,
в золотое, голубое, пестрядинное рядно!
«Фантомас разбушевался» – распрекрасное кино…
Холод. Площадь. Ленин с нами, как пойти домой мне к маме,
вся в ушибах, с синяками?
Мне обидно. Мне темно.
Но!
Но я тоже не из глупых.
Я из смелых. Я из дерзких.
Нет, ни чай горячий, суп ли
Васе вылила я в туфли.
Нет. Коль мстить – так фантомасно:
мстить не стала, боль угасла.
Фантомас. Крылечко. Вася.
Но был снег. Огромный снег.
Вася умер раньше всех…
Обкурился. Обкололся.
Помню: шло большое солнце.
Солнце – тоже человек!»
И лишь она имела смысл. Мниша выучила её. Полина тоже. Саныч пел эту песню под гитару.
Алька не пела. У неё пропал голос. Вернись, сестра! Хватит шататься по болотам карпатским. По сектам.
Сект на Украйне множество. Это беда! Это жуть, сколько их!
Нестор вернулся в Соцгород. На поезде. Сотрясение улеглось. Рука срослась. А любовь к Полине осталась – сладкая, вожделенная, нескончаемая.
КАК ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВО В СОЦГОРОД?
Через мечту. Через благостные мысли. Всё возвращается только через добро. Добро к добру, как деньги к деньгам.
Разломов и расколов множество. Швы идут через сердце человека и сквозь него.
Если бы меня убили на войне, я бы не обиделась. Стала бы приведеньем в белой накидке. Что мне моя смерть? Накинула белую газовую косынку, платочек и – в путь! Хорошо быть привиденьицем! Летаешь себе. Всё видишь: Саныча, Нестора, Мнишу, Альку. Вот тогда бы я точно отвадила Альку от секты. Она только к еде прикоснулась, а тут я хвать – и по рукам её! Острожно так, косынкой: ешь своё родное, волжское, хлебное, щи да борщи с пельменями, уху ешь!
Она только к кришнаитскому алтарю, а я опять тут как тут: в церковь иди православную! Свечки поставь за нашу маму, папу, бабушек и дедушек в войну погибших. За братца нерождённого! За племянника погибшего в Мариуполе. За племянницу, что овдовев, прямо почернела лицом вся.
Но я жива. И счастлива. Поэтому приходится терпеть отклонения от орбиты.
Нестор, Нестор! Люблю тебя. Пораненный мой, побитый, покоцаный, весь в синяках и ушибах.
И Саныча я люблю. Он же брат твой. Вы из одного теста: крепко сшитые, ладно скроенные, родинка слева, родинка справа. Головы круглые, затылки ровные, волосы мягкие.
Саныч целуется. И обмирает. Это молодость моя. Страсть первая. Дорога широкая.
Нестор – это бессмертье. Да, так бывает, что смертный открывает врата в иной мир – райский. Частица рая, вот что такое Нестор. Мёд. Сахар. Елей. От любого звонка ему вздрагивает сердце. Любая смс вводит в восторг. Любое слово даже незначительное – вырастает в скалу, в гору, в башню.
Он сам подошёл ко мне тогда. И я поняла: под свитером бьётся сердце. Такой упругий этот Нестор, как мяч, в нём воздух, кровь, мышцы. Нестор – ты понимаешь, что наделал? Ты увёл меня от Саныча. И наш маленький – усыновлённый нами Коленька Костров теперь с нами. А вот и путешествие за ним, уже зимой, когда Нестор немного поправился:
Вот он наш славный Коленька после подписания всех необходимых бумаг, после объяснения и выяснения, после того, как смолкла канонада. И был расчищен путь сановный. Люблю, когда Нестор за рулём. Люблю, когда он кладёт мне ладонь на колено. Так по-хозяйски. Ладонь у Нестора добрая, тёплая. Он весь добрый и тёплый. Теперь у нас сын Коленька.
Малыш узнал меня, обвил мою шею руками:
– Мамаша! Ты приехала! За мной!!!
Теперь у меня трое детей. Алёшка. Арсений. Коленька. И Мниша – с голосом ребёнка, но почти старушка. Она всегда удивлялась, как мне удалось не постареть. Очень просто: кефир на ночь, холодный душ, пробежка в магазин с утра до завтрака, уход за Санычем, который спился и обезножил. Но теперь и Саныч начал ходить, от моих чудодейственных травок.
– А поедем в Индию сестру вызволять? – спросил Нестор.
Этот удивительный, так и не повзрослевший Нестор! Мальчик-стрик. У него вечно какие-то – а поедем-ка? У нас уже были эти «поедем-ка», в результате Нестор чуть не погиб, а я убила снайпера, или ранила, или просто напугала?
– Нет! – твёрдо возразил Саныч. Он уже мог ходить. Переступать слоновьими ногами по паркету. Его брат Нестор мягко перебирал ступнями. Он словно тоже шёл, но молча. Мы все шли куда-то. И мне надо было решать, делать выбор. Или привычный, уютный, вспыльчивый, горячий, как утюг Саныч. Или молодой старик-юноша Нестор.
И мы пока поехали в деревню. До Индии. До всего, что случится далее.
И было весело. Все хохотали: Саныч, Нестор, дети, даже собаки.
И мы танцевали возле стола, под вечер.
И Нестор сказал:
– Люблю тебя! Давай отойдём к сеновалу.
И я пошла. Квакали лягушки у болота. Летела музыка. Тётки укладывали детей. Саныч кряхтел возле самовара. И синее небо взмывало само собой.
Нестор целовал и целовал меня. В шею, губы, в щёки, впивался в грудь, что-то шепча, какую-то сказку очередную. После контузии и отсидки в подвале он не переставал рассказывать сказки. Одна была чудесней другой. Он трогал мои ладони, прижимал их к своему животу. Нестор! Нестор! летописец мой. Это напоминало Детгиз. Книга. Человек. Сказка. Добрый, бесхребетный Нестор. Он настаивал. Требовал. Просил, чтобы я ушла от Саныча. Я отвечала: я итак с тобой. И куда я пойду с тремя детьми – в однушку на Московском шоссе? Это из семи-комнатного дома?
Мы хотели друг друга. Искра пролетела между нами. Мы прижимались друг к другу как последний раз. И это была настоящая Индия: сказочная, детская, древесная. Но Альку мы не могли переформатировать. Секта не даёт обратного кода. Поэтому так трудно. Но возможно.
Алечка моя! Переформатируйся. Переверься. Кришна – это не твоё. Ты православная!
Отец Сергий сказал: надо молиться. Просто молиться и всё.
Саныч разбросал все вещи. Саныч, Саныч, успокойся!
– Ты любишь его? Да? Не меня, а его? Я видел, как вы пошли на сеновал.
– И что?
– Не надо оправдываться!
Саныч кинул подушку в сторону Нестора:
– Уходи! Уезжай!
Коленька вцепился в штанину Нестора. У него были крепкие ладошки. Я поняла: если Нестор уйдёт сейчас, то заберёт Коленьку.
Если не уйдёт, то братья останутся вместе. И дети останутся.
Мне, недостойной, надо уехать от этих людей. Честных. Добрых. Ласковых. Или сделать выбор. Но как? Саныч схватил меня за руку и сжал её до хруста. Было больно. Я вскрикнула:
– Идите все спать. Утром всё прояснится!
– А сказку расскажешь?
– Да!
Итак, последняя сказка Соцгорода:
«Только Наш мальчик не спал. Он увидел Марс. Эту краснокоричневую, яблоневокрылую материнскую планету. И припал он к её соскам, как Ромул к соскам волчицы. Захлёбываясь от счастья, воя от радости, от неутолимой жажды. Глотал тёплое яблоневое молоко, как вечную загадку бытия, как слёзную темень-теплынь. Звенело в ушах, болело в затылке, в хребте. Где закрылки растут! И обнял он руками красное олово планеты, прирос к нему грудью. Увяз пятиконечным сердцем, семизвёздными лёгкими, лунной печалью, печенью, суставами, подсуставчиками! И так, в обнимку лежать остался. Уморился, знать, искавши! А тут музыка полилась из изб марсианских! Тут-тут-тут! И ковёр краснотканый под ноги разложился! Знать, с утра его марсиане приволокли. Ожидая важных гостей. А гости-то перепились, и мимо проехали!
В тупике оказались, всей деревней. Горемычные!
Проснулись: позади дорога, впереди обрыв. За обрывом – речка, а в будке кобель на проволоке привязан. Сам пегий, морда пёстрая, длинная, клыкастая, хвост кроличий, холка кунья и весь чешуёй покрытый. Люди из вагона шасть, кобель пасть открыл – все тридцать зубов выставил. Варвара ему что-то крикнула, кобель холку натопырил и зарычал не по-нашему, не по-собачьи! Нечего делать, решили всей деревней переждать, когда кобель издохнет. День ждут. Два. Неделю. Хоть бы тебе хны. Не дохнет. Его и чистотелом травили, и мухомор в колбасу клали, и мышьяк в пироги подмешивали. Не берёт. Хоть тресни! Варвара его лаской решила взять. Поднебесной! Люботканой! Солнечноутренней! Бербзоволуной! Не берёт, не охватывается клыкастое кобелиное сердце! А тут дожди пошли. Первые! Грозовые! Свиструнные! Медовые! Кобель в свою конуру спрятался, пережидает. Эх, в деревне весело стало! Можно и погулять! Но недолго. Дождь минул. Кобель снова высунулся, клыки навострил, жив, гад, живёхонек!
Оно и в правду сказано: «Не узмывай постылого, приберёт Бог милого!» Так и получилось. Хватились Нашего нет! зовут, надрываются. Нету! По мобильному позвонили:
– Аллё! Ты где, сын наш?
– На Марсе, – говорит. – А вы где? А вы что?
– А мы-то, сынок, в тупик зашли. Дожди у нас. и кобель на проволоке. Страшный! Нас не пущает, ни туда, ни сюда, вот и сидим сиднем. А как иначе? Видно за грехи наши тяжкие. Куксимся. Наверно, за недоумие своё, за каторжную печаль. Тоску отрожную, гибельное гнилостное воровство наше!
На этом связь с Марсом прервалась.
Связь с родным домом тоже.
Наш сын широкими шагами пошёл далее. Остановился, принюхался. И понял – он достиг чего хотел. Не зря его душа смотрела в зеркало бытия. Этого тёмного. Сочного. Погибельного днища природы. Повернулся Наш на каблучках, причмокнул и на Запад посмотрел. Тьфу ты, срам какой! Лужи. черви в них копошатся, гниль, мухи зелёные на навозе сидят, ручки тянут. Да все толстые, розовобрюхие. Грудастые, ползут извиваются. Поморщился Наш. На Север посмотрел, там тина, сети паучьи, ряска болотная. Не то ли что у нас – мох. Всем мхам мох, такой лебяжий, песней напитанный. Ступать по нему мягко. Словно лакает, когда идёшь! Обволакивает. Нежит. Ступни щекочет. Пятки шлифует. Голени целует. Идёшь и знаешь, что любят тебя. Любят. Любят! Холят. Нежат. Укачивают1
Наш на Восток глянул. Ещё хуже: там срам-плакат висит, на досках прибитый. А на плакате баба голая, похотливая, светится вся к себе зовёт. Везде у неё мигалки и спереди и сзади, лампочки разноцветные, огонёчки махонькие, не как в деревне, а такие словно точечки. В деревне, если огонь зажгут, как прожёктором осветят. Возле каждой избы прожектор есть. чтобы издалека видно чейная изба. У Варвары синий прожектор в зелёных точках, мухами обсиженный, у Бориса лимонного цвета и мышами обглоданный. Он хоть и кот, а до мышей ленив жуть!
А тут баба вся из себя переливчатая. Один фонарик на пупе, а три красные пониже. И руку баба завела за голову – отдыхает. Наш-то несмышлёный ещё. Всего-то восемнадцать лет со дня мохогорения. Пошёл, куда баба зовёт. А там блуд. Пьянство. Срамота. Артисты гуляют по лужайке, художники тоже с мольбертами сидят посреди, поэты важные ходят, под нос себе что-то шепчут. А за столом бабы сидят, одна другой румянее. Напились, знать! И давай Нашего приглашать, пальчиками в него тыкать:
– Ты откуль такой?
– Какой? – Не понял Наш.
– Надутый!
И давай хохотать одна другой звонче. Тут мужик пришёл толстый, четыре руки, пять ног, одна запасная. Выгнал Нашего. Оно и правильно: нечего к девкам соваться без спроса!
Тогда на юг Наш подался. Больше некуда, лишь к морю, к пальмам поближе. А пальмы все синие, и бананы на них лазоревые мотаются. От ветра. Туда-сюда перекачиваются. Съел Наш один банан и насытился. Съел второй, чтобы результат закрепить. Пошёл в море купаться. Море только с виду тёмное, а ступишь в него светлое, прозрачное. Мальки беленькие мотаются возле камушков. Окунулся Наш – прохладно, на язык попробовал – сладко и мандарином пахнет.
– Ух, ты! – подумал Наш и давай пить-глотать. Но разве всё море выпьешь?
Понравилось Шамему на Марсе жить. Вот уж месяц минул. А на Марсе, как один день. И всё дивно ему! всё здорово! Вечером к Марсианке ходит, ночь под пальмой прохлаждается. Днём по северу шастает, там прохлада, ручьи под мостами текут, дышат туманами. Наш в лесу шишки собирает, радуется. Музыку слушает. Взял дудку вырезал, к губам поднёс. Внутреннюю музыку изливать начал. Сперва жалобно так, затем повеселее. Тут марсиане пришли, послушать, все носатые, чернявые. У каждого по четыре руки. Двумя можно деток держать, третьей сумку, а четвёртой затылок чесать, али в носу ковырять, когда засвербит. А тут у всех в сердце засвербило, от музыки! Марсиане стоят, чешутся, под рубахи лезут. Всё равно свербит. Да что же это такое? И четыре руки не помогают, и двадцать пальцев на каждой! А свербение продолжается, усиливается, нарастает. И нет с ним ни какого сладу! Тут нашего к себе одна марсианская барыня призвала. Она мимо проезжала в карете. Пока лучи щербатые сквозь тучи просачивались, на жирную марсианскую землю намазывались, барыня Нашего и приметила. К себе призвала на службу. Свербильную. Барыни они такие им кто на них работал, а самим лень. Свербильно-свербильно стало на Марсе, красно, божественно, синё! Как-то Наш спрашивает:
– Где у вас тут яблони?
Молчат востроносые, четверорукие, разбегаются в ужасе. Кто куда…
Ладно. Пошёл Наш сам искать яблоню. Долго шёл. И однажды видит: белолепестковое, сочноплодное, нежнокрылое существо. Подошёл ближе, аж, дух захватило – яблоки висят, много! Спелые! Сорвал одно. Съел. И у самого сердце засвербило, домой захотел. И так сильно! До слёз! вот бы снова тятьку-мамку обнять. Вот бы припасть к их щекам, вот бы теплотой обмыться! Стал звонить им по мобильному телефону. Сперва не дозвонился. Со вторго раза только вышло. И то – Варвара ответила:
– Але,– говорит.
– Домой хочу, – Наш отвечает.
– Правильно…
– Тогда денег дайте.
– Откуль они у нас? – Варвара заплакала. – Пёс все пожрал. Нетути…Так-то, голубарь! Псина эта чёртова ненасытная. Вечно голодная. А тут ещё чего выяснилось, что не кобель это, а сука…
– С чего вы взяли? – Удивился Наш.
– Так она ногу не забирает. А всё садится, с кобелём недавно якшалась, а с сукой никак! Такие у нас трудности. Ты уж сам как-нибудь выкручивайся…
Наш понял, что говорить больше не о чём. С людьми всегда так, то не наговоришься вдоволь, то не знаешь о чём, говорить вовсе. Оно, конечно, можно о погоде. Но какая погода на Марсе? Вот в Усть-Птичевске то вёдро, то солнце, то метель, то гроза, то ветер, то давление атмосферное, то буря магнитная, то облачно. Вот это погода! Переменная облачность с дождём, переменная облачность без дождя, а то дождь без облака. И не просто дождь тебе, а ливень. И откуда чего берётся?
Наш после разговора с Варварой несколько опечалился. Они и понятно. К барыне обратно идти смысла нет, не примет. А новых друзей нет.
– Ты не от мира сего! – Говорят.
Оно и верно. Не с Марса он. и пахнет от него яблоками. Совсем негоже. Если бы прелью болотной сыростью, мхом ли. То ладно. А-то яблоками! Не по-нашему! И смирный он, не дерётся. Не матерится, не ворует! А только краснеет и музыку слушает. Ту, что внутри – жалейную, печальноосенюю, ну-кось, ну-кось медосборную, ну-кось, ну-кось берегинную. Сто лет её берегли за семью замками, в сундуке кованном. В ларце секретном. И на тебе в сердце умотала, поселилась там, одомашнилась. Из дикой в ручную превратилась. А кому надо, что она у тебя внутри? Кому интересно? У нас любят про случаи разные, про ужасы, про аварии, смерти, изнасилования, грабежи, издевательства, потери! А про музыку нет! Ни капли!
– Вот бы страсти услыхать. Как мужик бабу побил. Свою! Сколько рёбер изломал? Как она кричала, бедная!
– Вот ещё случай был. Девка домой пришла. А у неё в ванной мужик голый. Убитый. Она туда-сюда. Что делать? Если кому сказать, то на неё подумают. Что убила она этого мужика. Тогда де вка решила положить мужика в мешок, но деньги себе взяла. Жаль добро топить. Мужик не добро. Он труп, а деньги пригодятся и мобильный тоже, подругам звонить! Ну, скажи, что не дура?
– Как есть дура! Её по этому телефону вычислили. Мстители! И словили… Правильно! Не жадничай.
– А вот второй случай. Маньяк объявился. И скользкий. Как угорь. Не поймать! Но страшный. Господи, спаси! Он одну бабу за грудь схватил. Она и вспыхнула вся, оттого, что рекламная была. Вот мальяка и осветила. Увидали его люди. Тоже поймали! Тоже, знать. Дурак!
Эти речи вспомнились Нашему. Речи славные утопистные, бархатноиглистые!
Пошёл Наш в читальню Марсианскую. Как раз время было. А там концерт идёт. Одного Хромого-глухого-нездешнего. Такая фамилия. А может, псевдоним. Сейчас мода на это дело. И придумают же себе клички! Махоморова, та, что романы про грибы пишет, или Ядовитов, он про змей, или Убиваюкогохочу, этот боевики строчит!
Сел Наш на скамейку. Слушает.
– Тоже мне критикуют! – Говорит Мухоморова. – А вы сами пробовали к перу прикоснуться? А если прикасались. То зачем? Письмо черкнуть или анонимку, так? Или жалобу какую!
– О, не злите меня! – Воскликнул Убиваюкогохочу.
– А у вас закусить не чем? После ваших слов есть хочется! – Признался Ядовитов.
– Вот орут: литературу испортили, испоганили…– Снова начала Мухоморова. – А литература она не пища! Её же не на хлеб намазывать!
– Но от неё можно питаться! И довольно сытно! – выкрикнул Ядовитов.
– Но как, но как, но как? – Спросила молодая поросль.
В это время ворвались в комнату астроиды. Дискуссия прекратилась, все пошли на банкет. Первый плюхнулся возле стола Ядовитов. Убиваюкогохочу был со своим вином. Он его выпил один и ушёл на следующую встречу с марсианами. Мухоморова долго давала автографы. Она закончила, когда всё уже съели, кроме мухоморов. Наш решил познакомиться с ней поближе. Начал с танца. Мухоморова не препятствовала, она благоволила ко всему новому.
– Вы слышите музыку? – спросил Наш.
– Нет… – призналась Муховорова.
– Прижмите ухо к моей груди.
Мухоморова повиновалась. Сердце у неё ёкнуло, когда в его ровное жёлтенькое ушко полилась чистая берёзовая мелодия. Она обняла Нашего, заплакала. Так тихонько, чтобы глазки не покраснели. Но они покраснели всё равно, потому что на Марсе у всех глаза красные. Хотя Мухоморова ходила к косметологу, убирающему красноту. Но косметолог оказался обыкновенным обманщиком. Шарлатаном! Наш увидел, что Мухоморова прячет глаза. И потрогал её за ухо. Оно было тоже жёлтым и тянулось в руках, как резина. Руку Мухоморовой тоже можно было вытянуть до нужного размера. Наш понял, что влюбился. Мухоморова не отвергла его. Зачем?
Об эту пору в Усть-Птичевске вспомнили о деревне. Посчитали урожай и не досчитались многого. Послали гонца. Сурового.
Варвара всполошилась первой, когда увидела гонца на пыльной дороге. Он буквально летел на своём автомобиле, фырча мотором, словно змий. Его колёса разрывали бедную плакучую землю. Но гонец был таким важным, таким занятым человеком, что впопыхах не заметил бедную деревню, нависшую над оврагом. Гонец пролетел мимо, рапортуя начальству о своих подвигах. Начальство поверило. Или сделала вид, что осознало. Оттого что ждало подношения. Квашеной капусты, замоченной в рассоле, маринадом политой, свёкольным настоем снабжённой. Диво! Детская, льняная, тишайшая сказка! Любовь туманная, сладостная, пружинная, наволочная, укропная! Капля тучная! Нега спелая, как кочан полевой, розовой, закатной капусточки!
Нет ничего в этом мире иного, чем этот яблочный, старый твой сад!
Всё здесь восторгало Нашего. Радовало до икоты. Этак, бывало, с утра раннего возрадуешься и икаешь до вечера, чтоб тебе пусто было! А закаты на Марсе синие, как лист брусники в Усть-Птичевске. И деньги туту, как листья капусты – зелёные скользкие, того и гляди, исчезнут, сквозь пальцы канут. И никто их не спасёт, увидев, схруснет и в щи располосатит. Поэтому Наш к деньгам не касается. И зачем ему, юродивому, нездешнему, пучеглазому соблазны? Не хочет Наш поганить душу свою православную. А начинается всё с малого – с лести-патоки, обмана-воровства, грубости-пакости, а заканчивается погибелью. Бывает. Что никто о твоём поступке не узнает, не смекнёт, но всё равно погано! А Наш жить хотел. Мухоморова это расчуяла. От Нашего так и веяло желанием, словно сквозняк какой-то него исходил при безветренной марсианской тихой близости. Сперва зачихала Мухоморова до колик в горле. Затем до чиха в носу, до тика глаз. И задумала Муховорова гнать Нашего в три шеи. Хотя у того одна всего была – тоненькая, хилая, малюсенькая шея, что хвостик у бычка, смычок у скрипки. От переживаний от Нашего засквозило ещё больше, прямо запорошило, и начало Мухоморову по ветру, аки листок кленовый, что цепляется за ветку сиротливо в бессилии, носить. На помощь пришёл Убиваюкого хочу. Он обмотал Мухоморову вокруг шеи, обвязался её ушами, только глаза оставил навыкате –пусть пучатся.
– Ты чего? – спросил Убиваюкого хочу. У Нашего. – Сбрендил?
– Нет. – Ответил честно Наш, как ни в чём не бывало. – Мухоморова сама полетела. Невесомость потеряла. Может, от любви?
– А… – понимающе кивнул Убиваюкогохочу. – Любовь гибельная штука. От неё стреляются, вешаются, с ум ума сходят, из окон бросаются, в омут кидаются.
– Неправда! – взвизгнула Мухоморова, выглядывая из-под ушей. – Любовь окрыляет.
– Оно и видно, ты чуть не улетела со своей орбиты! – Проворчал Убиваюкогохочу. – Окрылатилась. Лебедем полетела…
– А хоть бы и так! – спохватился Наш, защищая Мухоморову.
Но тут вдруг из его души такой ураган закрутился, что снёс он начисто марсиан с планеты.
– Прощай, Любимый, – успела выкрикнуть Мухоморова, держась за Убиваюкогохочу.
Вихрь был такой, что Наш тоже устоять не смог, хотя берёг себя от соблазнов. Да, видно, не получилось, подхватило Нашего подмышки, завертело, закрутило да и унесло на родину. На нашу жгучую землю, в Усть-Птичевск, столицу нашей родины, которая неожиданно стала центром Америки.
О, о, вы не верите? Чудо, что так. От вихря большая кадушка опрокинулась в ещё более большую кадку с капустой квашенной, листьями смородины обложенную, пряную, огуречную слизь, тминную сласть, в самую серёдку. Вот тебе и центр, воронка, омут, хрустящий, вкусный, смачный, малосольный. Смешалось всё в один заквас. И вышло, как в песне: в гости, так в гости, даю тебе слово. Как в той поэме. А кто её сочинил?
К тому моменту Заяц полинял, шкура его приобрела характерные черты линьки. Поэт лежал на диване, шевеля губами. Ему было лень смотреть в окно, оттого что кроме кобеля, привязанного на цепь Заяц не видел более ничего. Какое вдохновение от собаки? Одна тяжесть на душе. И дед Гипа ещё сигналы подаёт с того света, звёздочками машет, как только стемнеет. Заяц, бывало, только за перо возьмётся, палец обмусолит, ноготь обкусает, чтобы лучше думать, тут кобель пасть раскроет, звёзды начнут мигать, как ненормальные. И Белая деваха ругаться начинает, что денег нет. Откуда их взять?
– Из тумбочки! – Орёт жена.
– Оно и верно! – Заяц тянется к лакированной ручке, к скрипучей дверке, но денег в тумбочке нет. Пусто, вырастет капуста…
А Белая деваха никак не может успокоиться. Жадность её долит, скупость ломает. Давай и всё тут! Хоть из-под земли доставай, но чтобы к утру деньги были! Иначе подь из избы, в чистое поле, на вольные хлеба.
– А сын? – Задаёт Заяц вопрос, цепляясь за семейную жизнь, как за соломину.
– Сама выращу! – деваха указывает бедному отцу на дверь.
– Так он вырос уже. Жениться хочет!
– И пусть! Всё равно иди отсель подальше!
Но Заяц не может встать с дивана, как прирос. Словно хребет его пружины пронзили, кости застряли посерёдке. А к окну любопытные прильнули: Варвара, Борис. И пялятся. Чего там у Зайцевых происходит? Кабы знать…