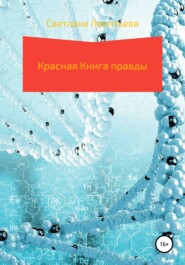По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ситцевая флейта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
непризнанною обществом, незваной
на бал, на скачки, где Фру-Фру изящна.
В извечном, пряном, непогибшем смысле,
где мир весь-весь на гибких, скользких плитах.
О, если б лучшей женщиной! Чтоб письма
читать любовные, не эсэсмески. Титул
носить «её сиятельство», сиять бы
и не померкнуть! Несгоревший ужин,
не выходить из этого романа,
не выходить из этой недосвадьбы,
не выходить, где луч до боли сужен.
Да что там луч? Из фобий, страхов, маний,
из жёрл, помолов, из петлей вокзалов,
из всех ролей, театров и антрактов!
Лишь только слышать: как там дребезжало
всей нотой «до» простуженного такта!
Шах и мат
Это можно понять лишь израненным сердцем,
перештопанным вдоль, поперёк, во всю ширь.
Например, как авгуры, латинское tectum –
раздвигали пространство, объёмный эфир.
И ложилось им небо под ноги… О, надо ль
неразумных наказывать, спутанных в лжи?
Мы-то видели, рухнула как анфилада,
и кирпичная кладка сложилась горбато,
словно гроздь виноградная смялась…Лежи
грудой «Апофеоза войны», как «Купанье
в красных реках коня». Вот теперь умиранье
много ближе…
Кому мы доверили жизнь
после этих лихих и стальных девяностых?
Скупердяям, стяжателям, блудням, прохвостам?
А Дом Троицкого, что был на Пискунова
с его крышей игорной и дверью-подковой
разорили сначала, продали, снесли,
довели до полнейшего краха! Был повод,
чтоб продать подороже участок земли
для директора рынка в пылу беззаконий!
О, как низко ещё мы падём!
Как уроним
мы реликвии наши в грязи и пыли!
Отвечать будут кто? Дети? Правнуки? Ибо,
как ответить за жадность,
за зло,
за погибель?
Этот шахматный дом сбережённым был в голод.
Этот шахматный дом сбережён был в бомбёжку.
Этот шахматный дом сбережён в красный молох.
Лишь авгуры с усмешкой глядят из-под чёлок
на окошко: