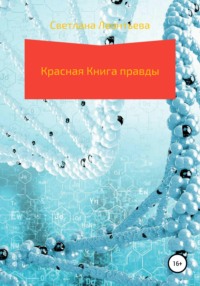По берёзовой речке
Как будто крестить в две руки!
Вот этот момент: Хиросима в груди.
Сказала сестра: «Я вот – здесь: ты иди!»
Да
я бы ступила с обрыва, с настил,
как в пропасть, прости, ох, прости!
Как мы неуклюжи, что стадо слоних,
коленки дрожат, да, мы с ней – из трусих.
На – поле пшеницы моё, чтоб растить,
на – зёрна,
на – птиц,
на – бери васильки!
Конечно, нам, женщинам, всем нелегко
даётся прощение, как сделать шаг?
Вот если с мужчиной поссорились, то
с ним можно в постель, и, мирясь, переспать.
А если страна со страною, то как?
У вас разве много Россий-Украин?
О, цветень,
о, лебедь,
пшеничный мой злак,
о, как это просто: обнять, дай обнять.
Объятия – выход один.
И вот вы коснулись ладошки, руки,
а рядом, вокруг васильки.
Васильки!
***
От мозаики Киевской Софии, от её суровых секретов,
от лазоревого, лазурного, рыже-солнечного исхода.
От «Города Солнца», от его идеального света
мощь, мудрость, любовь – всенародна.
Воссиянная! Соединяющая! С трепетом трепет.
И неважно, как шли, сколько шли, где плутали.
Я-то думала: пульс. Оказалось, в запястье – небо,
и неважно, какие фантомные были печали!
И какие всемирные боли…Лазурь да и только!
(Ты у мишки боли, бы у зайца боли, но не надо
у куклёнки моей, у сестрёнки моей, у дитяти…)
Дай подую на рану, на все пятьдесят ран, где горько.
Да на все пятьдесят их оттенков твоих скоморошьих,
если к ним прикасаться, они в золочёном сияньи!
Как на столб электрический лезть,
ты проверила кошки?
Ты проверила лезвия,
также остры, также пряны?
Ты же сильная, знаю. О, сколько в молчании крика!
Разрывал этот крик, наш всеобщий, мембраны вселенной.
И когда умирал крик твой-мой – восходил Светлоликий,
я таких не слыхала убитых, но не убиенных.
У Распятия свойство – о, сколько ни плачь – Весть Благая.
Я же помню, Володя толкнул, а я – враз пред иконой
оказалась в Ея колыбели,
на донышке, словно слагая
мозаичный рисунок, трясясь в лихорадке, со стоном.
А ещё – синий плащ, пурпур, тихий малиновый отсвет
было всё в этом крике со встряски времён, с изначалья.
В две груди разметался – единый! – в две оси.
И мотает меня до сих пор у оси ежечасно.
А новья-то, новья-то! Откуда его натаскало?
У меня было три сестры Вера, Любовь и Надежда.
Я – сестрица твоя.
Ваша – я. Я для всех жарко-ало.
И всея я – сестра. И всему я – сестра, как и прежде.
Говоришь, где-то пятая есть. Вот бы встретить, хоть мельком
увидать, ненаглядную, вот бы нам всем помолиться!
Говоришь: жемчуга.
Это правда! И в сердце – прицельно.
Из твоих рук я пью. Из твоих рук святую водицу.
Хорошо как рождаться!
Младенцы мы. Обе – младенцы.
Абрикосовы пяточки.
Розовые кулачочки.
И кладут нас с тобою обеих да на полотенце
и подносят ко батюшке, в лён завернув, во сорочки…
***
Выйдешь по склону к Волге вниз, по откосу
да вдруг как всплачешь песню свою гортанно.
Созрела калина-рябина: опять же осень
огромная, синяя вся, а в лесу багряна.
Вот так бывает участье, сосчастье, причастье.
Как будто бы больно другим, а во мне растёт рана.
Тебе не хватает синего, на, мой красный,
тебе не хватает инея, на – мой рваный!
Река у меня не просто зовётся Волгой,
река у меня не просто рвёт рыбьи краги,
не знаю, я ли рекою сейчас промокла,
она ли меня разрывает на мелкие капли.
И я выпадаю в неё, выпадаю, что дождик,
кормить её червяков и флейтовых синих мушек,
люблю я покусывающих лягушек
не в смысле поесть их куриных ножек.
А в смысле зайди на страницу и лайкнуть синим.
И прочитать: «не хочу ни медалей, ни грамот»,
меня вот также когда-то бесили
дипломы их красные в форме ягод.
И внешне спокойная, хоть всё огнём горело,
и внешне пристрастная, знала, как всё нелепо.
Моя задача: Есенина вынуть с петли,
моя задача: прикрыть Маяковского телом.
Моя задача: Марину Цветаеву в белой
пуховой кофтёнке собой заслонить стоустно.
Но что мне делать вот с этим окаменелым
да сплошь перекупленным, что все зовут искусством?
О, речка-речка, простор мой, пространство-время,
и птица чайка кричит, поёт ли со мною сольно.
Толкнули тебя с эскалатора – а мне больно.
Коль неба не хватит, бери мой закат внутривенно.
***
Это было когда-то давно, ещё перед Пасхой,
хватаясь за спины, толкаясь локтями: Пустите, пустите!
Когда умирал на кресте Иисус, что рождён в овчьих яслях,
тогда мы нуждались с тобою, сестра, не в его ли защите?
Да пропустите к нему, он там был до последнего вздоха,
и когда Он дышать перестал, завопила поляна
своим горицветом. У нас с тобой общего много:
и одна на двоих там, что слева, кровавая рана.
Отрекаться нам как? Пропустите нас, добрые люди!
А поляны истошно исходят цветочным нектаром.
Там не пульс на запястье, а словно ударило в бубен.
И совпали – твоё и моё – два запястья ударом.
Не пускали. Одежда впивалась в шершавые гвозди,
что торчали из балок. А поле – цветочные корчи.
Сестра, так бывает: друг другу с тобой передозы,
даже имя моё ни к чему вспоминать ближе к ночи…
А по козьей тропинке пойди на вершину, пробейся.
Словно блогер Уфимский – Рустам тот, который Набиев,
ему покорился Эльбрус по пути к Эдельвейсу.
Он шёл на руках, продвигался, как мы не ходили!
О, как заболели предплечья его – да у нас вдруг с тобою,
о, как мы носили икону одну к аналою.
В нас бились ветра, в нас толкались – спиной, головою,
но двери закрыты! На ключ, на замки, паранойи.
А после снимали Христа со креста. Как снимали!
О, как мы рыдали тогда, невозможно рыдали!
Похожие слёзы у нас. О, слеза, что немая,
слепая слеза, и глухая слеза, и больная.
Ужели нам мало? И снова нам мало. О, пей молоко ты.
Особенно на ночь. Особенно сладко-холодным.
Воскрес наш Господь. О, как он воскресал, капли пота
на бледном челе. Как он шёл, как он шёл к нам по водам!
По рыжим шёл водам, по синим шёл, по скоморошьим!
Мальчишье лицо. На щеках золотые веснушки!
И мягкие божьи ладони…
точнее ладошки,
какой Он небесный. И пульс на запястье кукушки!
Несёт Он хлеба из овса, из пшеницы проросшей,
несёт нам луга, где цветы, где пушинки и перья.
Когда он воскреснул, он помнил о всём, но хорошем,
забыв про плохое. Но не подведи: Он нам верит!
***
Родина – молоко моё белое, мёд мой шоколадный
как ты хороша в картинах у Волги.
Ты прохладна, светла, сладка, беспощадна,
тебя невозможно понять – лишь исторгнуть!
Тебя невозможно измерить по-Тютчевски, право,
лишь только прильнуть к твоим травам, лежать в этих травах.
Измерить могилами предков, могилы глубоки,
да пальцы порезать до крови в ковыльной осоке.
Люблю я машину помыть в озерце, проезжая
по области с края,
по области Нижегородской,
мечтая о том, что никто не собьётся, не спьётся,
никто не убьётся, летая на всех скоростях автострадцев.
помыла машину, пора отправляться нам, «Дастер»!
Три птицы его – рак да щука да лебедь – все сразу,
чинили коробку ему скоростей –
возноситься,
ему в «Автосервисе» холили тело и разум,
ему богородичьи нежные клеили лица.
Чтоб сразу из крайности в новую крайность – смиренья!
Где шаг от любви да в любовь безнадёжно первична,
где шаг от любви в нечто синее, бабье, осеннее,
оно словно озеро в дальнем лесу чечевично.
Кружусь вдоль оси своей, эка меня здесь мотает.
Исход – за флажки, а там, мамочки, синь да и только!
Скажи только, родина, да хоть в болоте утопнуть!
Шепни только, родина, я же твой шаг – его долька.
Да, я этот шаг, что размером с подростка-берёзу!
Да, я этот шаг, что из тёмного – прян, красен, розов.
Да, я этот шаг, как глагольная рифма с наречьем,
когда в пост-осеннем, когда снова куртку из шкафа
свою достаю, а за ней шарф, плед, варежки, шапка…
Когда в Верещагинской горке
сердечко
к сердечку!
***
День отца был вчера, мой отец, а сегодня ты снился,
как всегда в синем (это – Россия), а в светлом, знать, небо
или облако Сельмы Лагерлеф про Нильса –
мой любимый мультфильм, он про всё, он про нас и про лето.
Как ты плёл мне узоры, как в ленты скреплял мои косы,
у нас общий любимый поэт на двоих – Маяковский.
Помню, как написал ты один из стихов, из двустиший,
он наивный такой. Я такие зову графоманством,
я такие зову граф-обманством, отбросив всё лишнее,
остаётся лишь граф, князь, царевич. Давай без жеманства –
подкаблучник, влюблённый в мою самолучшую маму:
у неё были кудри
и белые нежные груди,
помню, как выходила она-выплывала из спальни
да под песню, тогда было модно про рыжего Руду.
Не могу без тебя я, отец!
Не могу я, что ж вдаль так
расплескался? Зачем заболел этим раком?
…Вот лежу я – двухмесячной – там, на подушке крахмальной,
словно яблочный торт, кулачки свои сжала, однако.
У тебя было время – на праздник меня брать с собою,
в тёплой шапке, с шарами я шла и гордилась, гордилась!
Что мой папа – директор завода, что там за забором
справедливость.
И Божия милость!
Лишь милость!
Что сейчас? Ах, давай не про это. Зачем тебе это?
Твой завод был расхищен. Растащен. Там сделаны склады.
Или, может быть, клады? А в кладах добро и монеты.
Ибо – граф, ибо – князь, и царевич. (Смотри, как я – складно!)
У меня был хороший отец. Супер, мега, имел три медали.
А четвёртым был орден.
Но сёстры на хлеб променяли –
это было давно в девяностые и в злые годы.
Мой отец – навсегда!
Мой отец – на века!
Он – на вечность!
Ну, подумаешь, годы четырнадцато-нулевые…
Мне прижаться щекой бы к твоей, где надежда и млечность,
вот хотя бы на миг!
Даже умершие мне живые.
Мне живые твои туеса, да в плетеньях корзины,
а в них ягоды, ягоды с мая и до сентября, и
что-то очень весёлое, очень хорошее сильно.
Лишь от горечи руки мои в кулаки ужимались.
***
Мятежный Аввакум устал нас с тобой приглашать
в поющий Чернобыль в его огневидную суть.
Какая здесь боль!
Птиче, Мати, Пресветлая мать.
Молитва ребёнка! О, дай на ладони подуть.
Молитва старухи! О, дай ей премного всего.
Молитва девицы, как будто день нынче Петров.
– Избави от ссор, исцели тело, душу, страну!
Одна у меня ты! Тебя исцели мне одну!
Не надо вот так, что в одном моём карем глазу
икона святая.
В другом не понятно мне, что.
Хочу, чтоб в зрачках только небо, любовь и лазурь,
хочу, чтобы в сердце одна всепрощения суть,
хочу лечь перстами к ногам Аввакума листом.
Ладони, ладони, ладони к нему простереть,
как мало я знаю про немощь во всю мощь и твердь,
как мало я знаю про лёгкость, что не унести,
больнее без боли,
кровавей без крови в горсти.
Когда на кресте крещены, а на небе в сто неб.
Мы мне одиноче, чем множество, без хлеба – хлеб.
Вода без воды, а вино без вина – хмельно мне,
медовая родина –
с плеч, лисий хвост, волчий мех.
Порезан на вены, на ленты, на капли с берёз,
размотан на ветер, что бьётся виском или без,
раскрошен на столько, что нету целее его,
и собран на столько, что в крохи раскрошенный весь.
Прости, если сможешь, и вьётся над пламенем дым,
и крестит двуперстьем всех тех кто не с ним и кто с ним.
Ужель побредём мы, ужели, ужели брести?
Хватаю я воздух, сжимаю до хруста в горсти…
***
У моей России бабушкины руки,
у моей России папины глаза,
матушкины песни, вихри, блики, вьюги.
В нас, внутри Россия: слезка, железа
и седьмое чувство. Все, кто Русь покинул,
те давно не имут, словно мёртвый стыд мой,
боль…Любить не так
надо, сердце плавить, плавить, плавить, плавить
в топке и в горниле, в доменных печах.
Самое смешное то, что сторожу я
взятую Бастилию, краденый рубеж,
через лаз всё вынуто, через кремль запродано,
лишь одно не выдрано с корнем в нас допреж:
речь! Глагол смородинный, Русь моя, прародина!
И не в тёмных матрицах, не на Римских улочках
мне лежать под пулями желтыми – в янтарь!
Чтобы крик под скулами сахарно-лукулловый,
на своей, на кровной я на земле, как встарь.
Вот вам – и аптека.
Вот вам – и фонарь…
А ещё бы в горло мне водки. Лёд. И слово
то, моё рабочее, в рифму с кровью в снег!
Эко как попёрло для меня медово,
захребетно, словно бы князь идёт Олег.
И стрела навылет. Вот, гляди, сквозь раны
Русь моя! Бастилия. Васнецов, Куприн
и Рубцов, который садиком багряным,
и ещё мёд Одина. Он такой один.
Отпусти пожить ещё! Побороться! Выстоять.
В ледяном побоище да в Бородино.
И зачем ты в голову мне контрольным выстрелом
целишься? Ах, сука ты, блин, предатель, дно.
Как же будет родина без меня родимая?
Слово моё ратное крепостью растёт!
Словно бы купинушка, что неопалимая,
куст терновый, ягода, занебесный ход.
***
Время – камушек с камушком, магмы и кобальта,
время Экклезиаста: сбери, коль разбрасывал!
Из-под всех саркофагов кричать нам Чернобыльских,
из-под всех печенегов вставать целой Азией!
Время – флага, синиц, да из каждой головушки,
из орла, что двуглав, озирать поле белое!
Время – нате, берите российской вы кровушки,
это нефть наша чёрная, нефть наша спелая!
Делай краски из нефти, рисуй Богородицу!
И мальчишку, родиться вот-вот он – юродивый,
и восплачет псалмом он Давидовым тоненько,
воспоёт он рекою да полем с пшеницею:
– Где страна? Где Россия?
– Да вот она, родненький!
Богородица скрыла её плащаницею!
– Где вода, что святая? О, где же водица-то?
– Вот она! В её горсточке, в беленьких пальчиках!
Так ныряй же в неё, в нашу нефть солнце-лицую!
Наша нефть – это наша трава мать-и-мачеха!
Время камни разбрасывать, но не сторонник я
ни реформ, ни подвижек, сторонник я книжек.
И осенней, что в Болдино, силлабо-тоники,
и сторонник адажио – это мне ближе!
Но вот камни!
Как быть?
Каждый звук мне – булыжник!
Каждый шёпот мой – кремень и шелест наскальный,
дождь мне щёки шершаво и горестно лижет,
о, как много камней – не собрать – разбросала!
Раскидала. Уродливо так, по-кабацки!
И сама под камнями – в могиле я братской
и безмернейше сестринской! Камни, о, камни!
Что по Волге, Туре, по Оке и по Каме!
Я-то думала: что быть в сраженье по-русски так,
оказалась сама, что янтарная бусинка.
Собери меня, музыка!
Обними меня, русая!
А зимою ты белая, осенью – в крошево,
я взываю к тебе, как трава та, что скошена!
Как сожжённая, Господи, в цивилизации,
что в Чернобыльской топтаная радиации,
как объевшаяся, словно до галлюцинации!
Доче, мати, душа моя, птиче! И катится,
нет, не яблочко – камень! И давит и давит
этот камень на сердце. я бросить –
не вправе!
***
Его звали «Вася-шкаф, шестьдесят километров»,
я сама нынче мчалась против снега и ветра,
торопилась, спешила, быстрее, стремглав,
предо мною в «Газели», как тот Вася-шкаф
60 километров, а во мне – больше ста,
моего «Птицу-Дастера» греет верста.
А вокруг, а вокруг Богородичный лес,
Иисусово дерево – дуб, что солдат,
Больше-болдинский свет в листьях наперерез.
…А дорога всегда – нервы, музыка, мат,
на билбордах Прилепин Захар, здравствуй, брат!
Мой фейсбучный товарищ, я рада! Ты рад?
Но «Газель» себе тащится, в ней Вася-шкаф:
древесина, песок, уголь и комбикорм,
и – на всречку нельзя,
и налево – там штраф,
святогорную песню поёт семафор.
Кто не любит, чтоб быстро, в обгон? Я люблю…
Я прокладываю, сосчитав, колею,
убыстряюсь, лечу, а точнее – пою,
выручай, моя бусинка, слева, на юг,
дальше, дальше дорога – шоссе моё, пава,
моя родненькая, соколиное небо! –
я хотела б, хотела в зрачки тебя вправить,
60 километров любви – где-то справа,
60 километров огней, щебня, камня,
60 километров – до сердца руками,
ты – лазоревая, корневая, вкус хлеба,
а что я для тебя?
Мои скорости птичьи,
мои скорости зверьи,
гречишно-пшеничьи.
Васильковые – еду вдоль поля грачиного,
да осоковые – что вдоль луга былинного,
всё в слезах ветровое стекло – в рыжем дождике,
это нежность моя, теплота скоморошья…
А по радио нынче вещают политики:
апельсины, торговля, базары восточные.
Кто отмолит меня?
Вася-шкаф!
Едет тихо он.
Он отмолит дорогой, щебёнкой, обочиной
и таким тонким-тонким, безгрешным, что пёрышко,
это лучшая высь. Это лучшее донышко!
Возвращаюсь обратно я из полиграфа
с полной сумкою книг, со своим альманахом.
Преисполненный радостью звук колокольчика,
что маячит мне призрачно Васею-шкафом…
***
Кьюар-код мой квадратный – квадрат мой Малевича,
молодильный, что яблочко, спелый мой, девичий.
С ним в любой магазин, в клуб, на сцену, на паперть хоть,
мой летящий, расстеленный белою скатертью.
Он мне – осень, хоть в кофту закутаю, в плед его,
он мне – пропуск, билет, он Гагарин – «Поехали!»
Все по-разному, каждый по-своему – люди же
соотносят себя в нашем времени выдюжить,
кьюар-код
Маяковским до крика мой вывернут,
белым мехом и чёрным подёрнут, мех – беличий,
Шакьямуни ученьем, лугнасадом под Ивенкой
от истока Торжка. Хорошо быть Малевичем:
он давно кьюар-код свой придумал, и – нате вам!
Он столетье назад туда вставил пернатые,
обнажённые крылья и косточки хрупкие,
кьюар-код
кьюар-код, как Мадонна с малюткою!
И грядёт, и идёт Она, цветь сжав ладошкою,
о, как пахнет водой живой и мёдом клеверным,
о, как пахнет брусникой, травой свежескошенной!
О, как никнет гречиха под тяжестью медленной.
Мы когда-то бродили в квадрате Малевича,
мы когда-то живали, мы были, мы певчие!
Мы кричали не выдранным горлом, хрипевшие,
и звезда была Волчья, но не озверевшая!
Где же, где же, скажи мне, ну где же мы, где же мы?
Во русалочьих тропах, лесах ли, валежниках?
Ну, иди ко мне, старшая девица красная,
ну, иди ко мне, младшая девица Настенька!
А я – средняя ваша сестра кьюаркодова,
я родная, я здешняя, яблочно-сводная!
Не погибнем теперь, ни за что не погибнем мы!
Сквозь пространство нежнейшая жрица Церера,
что несёт небо алое, белые липы
из неоновой, звёздной космической сферы!
***
Маленький мой, миленький, отмолю
я у всех невзгод тебя, островов Марианских,
под подушку недаром в колыбельку твою
я иконку клала по-христиански!
По-Юлиански все календари!
По-старославянски все древние тексты.
Ещё когда ты был у меня внутри
и слушал ритмы моего сердца.
А теперь! Это же надо ты вымахал как!
Школа, институт и служба, и армия!
А нынче в мире пиры вытанцовывает сквозняк
на все свои, сколько есть, полушария.
Девушка – белые волосы изо льна
та, что вчера тебя бросила.
Как же она могла? Как же могла она?
Так поступить, стоеросовая?
Ты, словно Ивашка у ног её льды,
ровно укладывал кубик к кубику!
И ты пылинки сдувал, целовал следы,
ты извергал эти маковки бублику!
Это из сцены: что нас не убьёт,
то искорёжит до деформации.
Другая придёт – сахар, нектар, мёд,
жаркий песчаник кварцевый!
Баррель поднимем. Вырастим Арараты в кистях.
Алые паруса сошьём из бархатистого ситца!
Мамы они такие – не унывают, не льстят
и не стареют, пока их белокожи лица.
Но если что-то, то враз
волосы в белой позёмке…
Шрамы вся жизнь, ты пойми, – не экстаз!
Эрос, Сизиф и головоломки…
Мир – на крови. Пенье, звон гильотин!
Скрипку нещадный Нерон прижимает к предплечью.
Женщин безумство, продажность, наркотики, сплин
душу калечат.
Если пожарищ несу я тебе города, имена,
всех от века начального войн в генетических кодах!
Ничего я исправить, хоть надо бы, но не вольна,
боль за державу, страдания, дерево рода!
Смелый мой мальчик, тебе я вручаю сей меч,
луки да стрелы, что прадед сковал богатырский!
Как мне хотелось тебя от беды уберечь.
С первой бедой
ты – сразился!
***
Не оглядывайся. Иди. Иди. На коленях.
Как очарованный странник двадцать первого века.
Позади километр. Впереди
восемьсот, тем не менее
на коленях, как будто юродивый, старец, калека.
Позволяй себе мучиться. Спать, где попало, плащ бросив
на медвяные травы, лежать в этих травах, есть мало.
Ты оставь мне грехи. Нынче мне всё есть храм, всё есть просинь!
Я вхожу в этот свет, я вхожу в эту тьму, что ломала.
Я могу, словно нищенка также стоять возле «Sрar»– а,
и не видеть зазорного в ней ничего, встану рядом:
– На, монеты блестящие. Их я тебе добывала.
О, как многие люди теперь попрошайкой донатят,
кто на хлеб, кто на воду, профессор на книгу, доклады.
Так вкушай эту осень – она, что псалом из Псалтыри,
как «блажен, чьи грехи» в отмоленьи оставлены в мире,
и не помнит отмоленный грех, ибо ладан.
Обо что не запнёшься – о камень, дощечку ли, надолб –
всё мне пух, всё мне мох, все мне ладно и складно.
Вот стою в общем хоре – старуха, младенец, певица,
для меня хороши даже те, кто собою гордится.
Ибо всё – есть сиянье. Ибо в общем мы времени жили,
из того, где Высоцкий из сил рвался, из сухожилий.
Из того, где был Галич, я плачу слезами тех Плачей,
до сих пор поколенье, как лес мой, во всю искорячен.
У Шекспира война, как игра, чтоб терпеть пораженье
и одиннадцатая есть заповедь, что Моисеева,
хагакурэ в листе, что сокрытое после сожжения,
так посей меня заново, ибо зерно для посева – я.
Двух смертей не бывать, так на третьей давай остановимся,
горло жгут мне слова, как костёр изначально осенний мой,
ибо осень считаю я с первой петли от Есенина,
добавляющей боли петли от Марины особенно.
Потому – на коленях!
На этих шершавых и слабеньких,
и, конечно, по-женски,
конечно, конечно по-бабьи я
очарованным странником,
стареньким, слабеньким, маленьким.
Маяковским навыворот, чтобы остались уста одни…
***
Скрепляющие, неумирающие, нужные слова,
погружаюсь в них до Иллариона и до Нестора.
Кто сорвал слово с уст, кругом чтоб голова?
Это слово вначале вспорхнуло небесное!
Это слово, что зрело ещё, что во сне,
что ещё не успело, ожегшее горло!
Ты зачем его дал нам, ему, себе, мне –
слабым нам, смертным нам безнадёжно-упорно?
Ты шепни нам на ухо пока на кресте,
не убит, не помилован – горько Распятый
о великой не смерти,
большой красоте,
изложив чем прекрасны мы, чем мы богаты.
До того я вонзённая в слово Твоё:
обвивает мне шею вся Библия сразу!
Это слово вначале, как тот водоём,
что размахом с ладонь невозможно прекрасен.
Я в него, словно в тазик, так в детстве меня,
когда папа служил в дальней воинской части,
погружали, купали. И печка – в огнях
рыжих, словно листва, снегириных, мышастых.
Под заслонкой гудело, как слово, нутро,
несказанное слово. Его не сказали!
Меня просто в него окунали, в ядро,
если слово – есть Бог,
если слово вначале.
И оно запекалось в гортани Его,