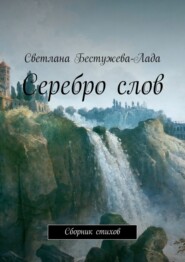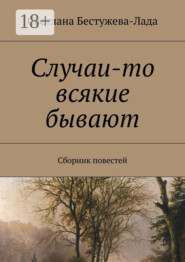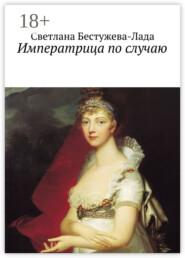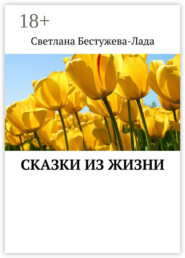По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История России в лицах. Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Император Петр правил 186 дней и даже не успел короноваться. Военный переворот, наподобие того, который возвел на престол его ныне покойную тетку, сделал императрицей его супругу – в будущем Екатерину Великую. Перемены в государстве Российском были столь велики и значительны, что о памятниках, мозаике и науках вообще временно забыли.
Ломоносов напомнил о себе традиционной Одой, в которой сравнивал новую императрицу с Елизаветой, выражал надежду, что Екатерина II «златой наукам век восставит и от презрения избавит возлюбленный Российский род» и приветствовал начинания Екатерины в пользу русского просвещения и воспитания. В данном случае он не ошибся: новая императрица впервые после смерти Петра Великого занялась государственными делами во имя и во благо России. Екатерина могла бы поддержать многие начинания Ломоносова и собиралась это сделать. Но судьба распорядилась иначе.
С 1763 года Михаил Васильевич стал прихварывать и все реже выходил из дома. В июне 1764 года императрица, узнав о болезни Ломоносова, без предварительного оповещения и без доклада отправилась к нему домой в сопровождении княгини Дашковой и некоторых придворных. Ломоносов, не ожидавший никаких гостей, сидел в своем кабинете.
Императрица сразу увидела, что силы великого человека иссякают, и постаралась ободрить его: обещала всяческое содействие, приглашала «запросто» приезжать во дворец и обращаться со всеми просьбами непосредственно к ней. Ломоносов отблагодарил государыню за ее визит восторженными стихами, но для всего остального было уже слишком поздно.
Даже полученное известие о том, что он избран почетным членом Стокгольмской и Болонской академий наук, не смогло возродить в ученом ни сил, ни интереса к жизни. В апреле 1765 года, на второй день Пасхи, около пяти часов пополудни, Ломоносова не стало.
Он встретил смерть со спокойствием истинного философа. За несколько дней до нее сказал одному из своих друзей:
– Я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог совершить всего того, что предпринял для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии, и теперь, при конце жизни моей, должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мною.
Похороны Ломоносова прошли с большою торжественностью, при огромном стечении народа, сенаторов и вельмож. Михаил Васильевич был погребен 8 апреля на кладбище Александро-Невского монастыря. Через год на могиле был поставлен памятник из каррарского мрамора с надписью на русском и латинском языках.
«Въ память славному мужу Михаилу Ломоносову родившемуся въ Колмогорахъ въ 1711 году бывшему статскому советнику Съ.-Петербургской Академiи наукъ профессору Стокголмской и Болонской члену разумом и науками превосходному знатнымъ украшениемъ отечеству послужившему красноречiя стихотворства и гистории россiйской учителю первому въ Россiи безъ руководства изобретателю преждевременною смертiю отъ музъ и отечества на дняхъ святые пасхи 1765 году похищенному».
***
Грустно и парадоксально, что для своих современников Ломоносов был прежде всего поэтом. Хотя следует признать, что в сфере русской поэзии он был чисто формальным реформатором: преобразователем литературного языка и стиха, который отчетливо осознавал, что литература не может идти вперед без формальной правильности в языке и стихе, без литературных форм. Но кто читал его академические статьи по этим вопросам? Лишь единицы образованных и заинтересованных в них россиян.
И тем не менее, новейшая орфография тех времен в наиболее существенных чертах создана именно Ломоносовым. Его «Русская Грамматика», его «Рассуждение о пользе книг церковных», «Письмо о правилах российского стихотворства», вместе с практическим осуществлением этих правил в собственном «стихотворстве» Ломоносова, раз и навсегда решили вопрос самого существования русской литературы. То есть сделали то, что в итальянской литературе произошло еще в XIV веке, во французской – в XV – XVI веках, в английской и немецкой – в XVI веке. Это следует помнить тем, кто упрекает Ломоносова в выспренности и холодности его собственной поэзии – для Михаила Васильевича рифмование как таковое имело крайне малое значение.
Впрочем, Ломоносов доказал, что русский язык позволяет писать стихи не только хореем и ямбом, но и анапестом, дактилем и сочетаниями этих размеров, что русский язык позволяет применять не только женские рифмы, но также и мужские и дактилические, позволяет чередовать их в самой различной последовательности. К своему письму о стихосложении он приложил «Оду на взятие Хотина», написанную еще в 1739 году. Впечатление от оды было подобно грому среди ясного неба – она поражала невиданной доселе гармонией, заставляла трепетать сердца, увлекала в выси…
В 1756 году Ломоносов отстаивал – увы, безуспешно! – права низшего русского сословия на образование в гимназии и университете. В 1759 году он составил устав для новых гимназий и Университета, причем опять всеми силами отстаивает права низших сословий на образование.
«Ученые люди, — доказывал Ломоносов, – нужны для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистые веры, земледельства и предзнания погод, военного дела, хода севером и сообщения с ориентом».
Бывший рыбацкий сын, сам рыбак и мореход, знал, о чем так радел. Увы, как хорошо известно, нет пророка в своем отечестве. Считанные единицы сумели в какой-то степени повторить путь «архангельского мужика». Который, как писал Некрасов, «по своей и Божьей воле стал разумен и велик». Поэт, правда, не добавил, сколько высоких персон противилось этой самой воле…
И после смерти нашлись «доброжелатели». Поэт Александр Сумароков, довольно знаменитый в то время, изрек:
– Угомонился дурак и не будет более шуметь!
Наследник престола и будущий император Павел высказался еще категоричнее с «государственной», как ему казалось, точки зрения:
– Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал…
Не правда ли, в России мало что изменилось с тех времен? Об умерших великих людях по-прежнему можно услышать немало гадостей, хотя это – отнюдь не по-христиански. Но на это мало кто обращает внимание.
А с царем-преобразователем Петром Ломоносова сближает отнюдь не родство по крови, а неистовая любознательность, жажда «объять мыслью необъятное», настоящий, а не показной патриотизм.
Нет, не зря Московский университет назван именем Ломоносова. Великий помор и сам был, можно сказать, первым русским университетом.
По месту и честь.
Победителей не судят
Кто такой «генералиссимус»? Это высшее военное звание, которое обычно присваивалось полководцам, командовавшим на театре войны несколькими армиями. Впервые это звание появилось во Франции. Французский король Карл IX удостоил звания генералиссимуса своего брата, впоследствии короля Генриха III. А кто был первым российским генералиссимусом. Когда заходит речь о звании генералиссимуса, то сразу говорят об Александре Васильевиче Суворове. Однако он был совсем не первым полководцем, получившим это звание. История этого звания в России началась за двадцать один год до того, как оно было учреждено «Уставом воинским» 1716 года. Первым русским генералиссимусом стал в 1695 году князь Федор Юрьевич Ромодановский, потом, в 1696 году, полководец Алексей Семенович Шеин, который участвовал в Азовском походе, осаждал Азов, командуя сухопутными силами русских войск. Интересно, что когда 30 сентября 1696 года русские войска как победители входили в Москву, то в раззолоченных каретах впереди войска ехали два командующих – генералиссимус Шеин и адмирал Франц Лефорт, а за ними шел в пешем строю капитан Алексеев – царь Петр I. После официального учреждения звания генералиссимуса его носил Александр Данилович Меншиков, которому это звание пожаловал, как ни странно, не сам Петр I, а его внук – малолетний Петр II. Но все эти люди отличились ратными подвигами. А вот кому это звание было присвоено незаслуженно, так это герцогу Антону Ульриху, который был мужем Анны Леопольдовны, регентши при младенце-императоре Иване Антоновиче, и никаких сражений не выиграл. Зато следующим генералиссимусом был великий полководец Суворов.
Величайший русский военачальник Александр Васильевич Суворов (впоследствии князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской империи, генералиссимус русской армии и генерал-фельдмаршал армии австрийской) родился в 1730 году в аристократической семье генерал-аншефа и сенатора Василия Ивановича Суворова, начинавшего, впрочем, свою службу денщиком у Петра I.
«Фамилия Суворовых, – отмечала Екатерина Великая в своих „Записках“, – давным-давно дворянская, спокон веков русская… Его отец был человеком неподкупной честности, весьма образованным…»
Екатерина, возможно, запамятовала, что «весьма образованный человек неподкупной честности» в царствование императрицы Анны Иоанновны, будучи прокурором полевых войск, был командирован вместе с капитаном Ушаковым («великим российским инквизитором», – по отзывам современников) в Сибирь для производства следствия над находившимся в березовской ссылке семейством Долгоруких.
Следствие привело к тому, что князь Иван Долгорукий был четвертован, его младшие братья – заточены в крепость, а сестра Екатерина, «порушенная государыня», обрученная в свое время с императором Петром II, – насильственно пострижена в монахини. Василий Иванович Суворов за служебное рвение был удостоен повышения: назначен сенатором и генерал-губернатором завоеванной к тому времени части Пруссии.
Когда на трон взошел племянник императрицы Елизаветы, Петр III, Василий Иванович получил назначение в Сибирь губернатором. По каким-то одному ему известным причинам он туда не поехал, а принял самое активное участие в свержении Петра и возведении на трон Екатерины. А она, как известно, нс забывала тех, кому была хоть чем-то обязана.
Его сын Александр, нареченный в честь Александра Невского, родился 13 ноября 1730 года. Хилое телосложение единственного сына и наследника несколько огорчило Василия Ивановича, и он уже приготовился отправить Александра служить «по гражданской части». Но мальчика неотвратимо влекло к себе военное поприще. С детских лет Суворов проявил тягу к военному делу, пользуясь богатейшей отцовской библиотекой, изучал артиллерию, фортификацию, военную историю. Большое влияние на судьбу Александра оказал друг семьи Суворовых, генерал Ганнибал, прадед Пушкина, который, заметив тягу мальчика к военному делу и образованность, повлиял на его отца, чтобы тот избрал для сына военную карьеру.
Для того чтобы его заветная мечта – стать солдатом – исполнилась, Александр придумал и неукоснительно выполнял целую систему тяжелейших физических упражнений, а также старался закалить свое тело, сделать его невосприимчивым ко всякого рода воздействиям. Ему это удалось, хотя ни высокого роста, ни атлетического телосложения будущий великий полководец не обрел. Зато мог сутки напролет шагать с тяжелым ранцем, забираться чуть ли не на отвесные стены, спать на голой земле и питаться самой простой пищей. Впоследствии это стало поводом для анекдотов, но так было на самом деле.
Самое удивительное заключалось в том, что Александр к тому же стал человеком не просто образованным – высококультурным. Сам он обмолвился однажды, что ежели бы не был военным, то стал бы писателем – настолько хорошо владел он пером. Писал в основном на великолепном русском языке, хотя в совершенстве знал латынь, польский, турецкий, свободно объяснялся по-французски и по-немецки. Сохранилось более двух тысяч его писем, и считается, что примерно столько же утрачено.
Вот, например, его суждение о том, каков должен быть военачальник:
«Смел без запальчивости, быстр без опрометчивости, деятелен без суетности, подчиняется без низости, начальствует без фанфаронства, побеждает без гордости».
Полная программа – и почти вся воплощена в жизнь самим ее автором.
Двенадцати лет от роду Александр был зачислен солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк. Жить продолжал дома – таковы были дворянские традиции тех времен. Через пять лет, еще до явки в полк, получил звание капрала – и после этого началась его действительная служба. Ему исполнилось двадцать четыре года, когда он получил свои первый офицерский чин: по меркам того времени – очень поздно.
Возможно, это объяснялось тем, что Суворов слишком отличался от остальных офицеров: не околачивался без толку при дворе, не искал покровителей, не цеплялся за женские юбки. Зато солдаты его любили: никаких несправедливостей, а тем более унижении он не допускал, и если чего-то требовал, то сам же и подавал пример исполнительности.
В 1762 году, после нескольких побед над прусской армией Суворов был назначен командиром Астраханского пехотного полка. На следующий год – командиром Суздальского пехотного полка, который блестяще использовал опыт, накопленный Суворовым в боях против Фридриха Великого, и внес немалый вклад в разгром и первый раздел Польши.
По возвращении в Санкт-Петербург в 1773 году Суворов был произведен в генерал-майоры и отправлен на войну с турками в армию фельдмаршала Румянцева. Именно там произошли первые встречи будущего генералиссимуса с Григорием Потемкиным – будущим князем Таврическим. Два великих человека не испытали взаимной симпатии.
Роскошно-ленивый великан Потемкин и юркий, сухощавый, насмешливый Суворов могли прекрасно дополнять друг друга, но сблизиться никак не могли. Эта невозможность впоследствии стоила России нескольких лишних месяцев осады турецкой крепости Очаков: Потемкин, тогда уже всемогущий фаворит Екатерины, просто-напросто удалил Суворова с поля боевых действий, а сам добиться быстрой победы не смог. Этого, кстати, он тоже Суворову не простил и не забыл.
Вообще у Суворова был необычайный талант – допекать вышестоящее начальство. Когда он считал приказы сверху глупыми, то преспокойно пренебрегал ими и доводил начатое до конца, причем всегда успешно. На гневный вопрос того же Потемкина, чем он изволит заниматься, насмешливо ответил:
«Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу».
Однако жалобы на Суворова императрица, не слишком любя его сама, ни от кого не принимала. «Победителей не судят», – начертала она на одном из донесений об очередной выходке строптивого генерал-майора, и на том дело было закрыто.
Опоздал он к победе только один-единственный раз, но и это опоздание оказалось весьма кстати. После окончания первой турецкой кампании Суворов был направлен на Волгу, для усмирения пугачевского бунта, но поспел, что называется, «к шапочному разбору»: Пугачева уже схватили и отправили в Москву, мятеж дотлевал.
После этого Суворов не без гордости говорил, что нигде, кроме как на войне, не пролил ни капли человеческой крови. При подавлении отголосков пугачевского бунта «не чинил ни малейшей казни, кроме гражданской, но усмирял «человеколюбивой ласковостью…».
Ослушаться он не смел только своего отца и, когда тот приказал сорокалетнему уже сыну жениться и озаботиться наследниками, безропотно обвенчался с избранной родителями невестой – княжной Варварой Ивановной Прозоровской, «Варютой». Жену, в общем, даже любил, потому что… «жена человеку Богом дается как не любить?».
Та, правда, придерживалась несколько иных взглядов на семейную жизнь. После пяти лет относительного мира и согласия, за которые жена подарила ему сына Аркадия и дочь Наталью – любимицу, в супружеской жизни стали появляться трещины. По-видимому. Варвара Ивановна иначе представляла себе жизнь генеральши и богатой помещицы: сопровождать мужа в походах и делить с ним все «прелести» бивуачной жизни ей никак не улыбалось. Куда больше прельщало порхание по светским гостиным и… молодые любовники.
Суворов мог понять нелюбовь супруги к бытовым неудобствам, но измены дражайшей половины его, человека невероятно вспыльчивого, настолько вывели из себя, что он даже обратился в консисторию с прошением о разводе. Развода ему не дали, наоборот, стали навязывать примирение. Императрица не слишком стремилась поощрять супружеские добродетели, ибо сама в ту пору меняла фаворитов чуть ли не ежегодно.