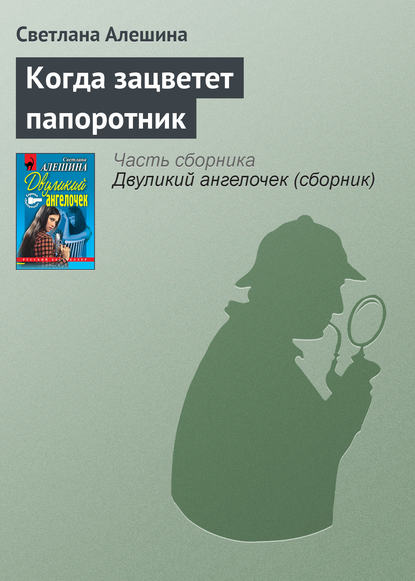По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Когда зацветет папоротник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– История с убийствами, арестами и расстрелами. Впрочем, в те времена убивали часто, а расстреливали еще чаще, – ответил Кряжимский. – Я не совсем уверен, что точно помню дату, память у меня на числа что-то слаба стала, но, кажется, случилось все это году в двадцать девятом – тридцатом, во времена массовой коллективизации.
Некто Семен Фролов из села Терновка Баландинского уезда, зачисленный в кулаки, в знак протеста порезал всю свою скотину в количестве двух коров, лошади и десятка овец. Самого Фролова расстреляли, а семью его выслали в Сибирь, разрешив забрать только личные вещи.
Жена Фролова, то есть уже вдова, кроме разрешенных предметов личного обихода, прихватила и эту картину, которая досталась ее мужу от его отца, ходившего в молодости с бурлаками от Астрахани до Нижнего. До Сибири, однако, Фроловы не доехали.
В Орске – это километров триста к востоку от Оренбурга по железной дороге – Фролова заболела тифом и вместе с двумя взрослыми уже, на выданьи, дочерьми и пятилетним сыном была высажена из товарного состава и отправлена в так называемый тифозный барак. В бреду она все повторяла, что завещает сыну Степе сохранить картину и найти клад, путь к которому эта картина якобы укажет.
Когда она пришла в себя, ее спросили о картине и кладе, но она только смотрела на окружающих с ненавистью, прижимала к себе свои узлы и молчала…
Сергей Иванович перевел дух, сделал маленький глоточек коньяка, подержал его во рту, проглотил и продолжил. Мы с Ромкой слушали с интересом.
– А ночью кто-то зарезал Фролову и все ее семейство, а вещи украл, – сообщил Сергей Иванович. – Наверное, на клад позарился, о котором Фролова в бреду говорила. Скорее всего кто-то из обитателей того же самого тифозного барака. Но и убийце не судьба была в живых долго ходить. Через день нашли его на вокзале умершим от тифа, не успел уехать. При нем нашли и вещи, украденные у убитых им Фроловых. Вещи сожгли, а картину решили передать в Оренбургский музей, вдруг, мол, что-то ценное.
Когда она попала в Оренбург, ее показали известному в то время на Урале профессору живописи Мордовцеву. Он даже руками всплеснул, когда ее увидел.
Этой картине, говорит, цены нет. Про нее среди уральских казаков легенды ходят. Ее якобы нарисовал то ли один из «генералов» Разина, то ли сам Степан Тимофеевич. И что указывает эта картина на место, где Разин спрятал большую часть казны своего войска, пушки перед походом на Москву хотел купить.
Об этом рассказывают из поколения в поколение в селах, где живут уральские казаки. На вопрос, не может ли быть в самом деле связана эта картина каким-либо образом со спрятанными Разиным сокровищами, профессор Мордовцев рассмеялся и ответил, что русский народ любит сказки, часто сам их сочиняет и свято верит в реальность существования придуманных им самим леших, водяных, ведьм, домовых и прочей нечисти.
Почему бы, в таком случае, не верить и в клад, зарытый Разиным перед походом на Москву?
Мордовцев сказал, что картина не имеет художественной ценности, поскольку написана человеком, ничего не знавшим ни о перспективе, ни о пропорциях, но, вполне возможно, что она представляет собой историческую ценность, если только удастся установить время ее написания и какую-то связь с разинским восстанием.
Но Мордовцев примерно через месяц был арестован, поскольку выяснилось, что его сын, штабс-капитан царской армии Николай Мордовцев, руководил в начале двадцатых бандой, промышлявшей под Оренбургом.
Имущество его было описано, частью распродано, частью расползлось по семьям офицеров НКВД. Картина попала к большому любителю старины комиссару Штапову. Он повесил ее у себя над обеденным столом и не боялся никаких провокаций и доносов со стороны сослуживцев – ведь на картине, если верить преданию, изображен был сам Степан Разин, а это имя тогда было в чести – защитник угнетенных, борец против царского самодержавия, а что кровь лили реками, так это – за правое дело.
Году в тридцать втором Штапова перевели в Тарасов, куда он и переехал со всей своей семьей – женой, дочерью и сыном.
Работа у него была разъездная, большей частью – усмирительная. Но в одной из деревень голодающего в то время Поволжья он был зверски убит потомками тех самых угнетенных, картина защитника которых висела над его обеденным столом. Жена его к старине относилась с гораздо меньшим трепетом, она распродала вещи и отправилась с семьей к родственникам в Питер, где и прижилась.
В тридцать восьмом она наведывалась в Тарасов, чтобы попытаться вернуть себе квартиру, которую бросила в Тарасове после смерти мужа. Но из этой попытки ничего не вышло.
Приезжала она как раз во время празднования двадцатилетия образования ВЧК, ее погибший муж был отнесен к разряду героев, и ее подробно расспрашивали о нем газетчики. Тогда-то она и рассказала все, что знала об этой картине. Аркадий Данилов-Тарасовский – был в то время такой известный в городе репортер – попытался разыскать картину, но ему это так и не удалось.
Штапова вспомнила, что картину купил у нее один из сотрудников Тарасовского краеведческого музея, но фамилии его она не знала.
Данилов-Тарасовский облазил все фонды в краеведческом музее, хранилище в художественном, в который в начале тридцатых была отправлена часть фондов музея краеведческого, но картину ему найти не удалось, и он объявил ее пропавшей.
Но, судя по тому, что рассказал Рома, картина вовсе не пропала, а была похоронена в подвале художественного музея. И если бы не копия, которую с нее делал Рома, про нее так бы никто и не вспомнил…
– Но раз кто-то заказал копию, – возразила я, – значит, о том, что картина хранится в музейном подвале, кто-то знал. Мне, правда, не совсем понятно, зачем этому краеведу понадобилась копия картины, которая никакой ценности не имеет.
– Э-э, не скажи, Оленька, – ответил мне Сергей Иванович. – Не забывай, что речь идет о сокровищах самого Разина. Про то, как он расправлялся с купцами и боярами, мало кто в России не слышал. Но что-то не припомню, есть ли где упоминания о том, что кому-то удавалось найти разинские клады.
– Может быть, он и не закапывал никаких кладов? – спросила я.
– Ну, это, знаете ли, предположение в духе нравственной доктрины времен развитого социализма, – улыбнулся Кряжимский. – Раз, мол, боролся за освобождение крестьян, то и никакой корыстью озабочен не должен был быть, о деньгах не думал. Этакий, понимаете ли, воинствующий гомосоциализм…
– Не поняла вашей ассоциации, – сказала я. – При чем здесь?..
– Извращение потому что! – буркнул Сергей Иванович. – У нас историю каждый сочиняет по-своему, как ему нравится. Захочет, Емелю Пугачева благородством наделит, как любили наши классики делать, захочет – из батьки Махно народного героя изобразит. Как уж тут Разина народным заступником не сделать! А народные заступники всегда питали отвращение к идее личного обогащения, это у них в природе заложено!
– Насчет Пушкина вы, Сергей Иванович, между прочим, не правы! – возразила я. – У Пушкина благородство Пугачева выглядит как каприз какой-то, не больше. А Разина сам народ своим заступником считал, вспомните песни о нем, их не один человек сочинял.
– Песни! – фыркнул Кряжимский. – Да народу больше всего запомнилось, как он с беспомощной женщиной расправился! Я понимаю, конечно, этот акт злодейства всем понравился: и мужикам, которых жены всю жизнь пилят, и бабам русским – княжна-то была персиянкой. Значит, туда ей и дорога, не будет русских мужиков соблазнять. В этой песне, если хотите, выражена идея охраны русского генофонда! Очень агрессивная, заметьте, идея!
Ромка слушал нашу болтовню отрешенно, уйдя в себя, и я начала опасаться, что образ убитого Дмитрича опять заслонил ему весь белый свет.
Но оказалось, его мысли приняли совсем иное направление, причем довольно неожиданное как для меня, так и для Кряжимского.
– Послушайте! – сказал вдруг Ромка. – Я теперь понял! Константина Дмитриевича из-за этой картины убили! Это точно!
Я тут же насторожилась. Сами понимаете, почему. Ромка тоже имел самое непосредственное отношение к картине, копию с нее снимал, и если убили художника Фомина действительно из-за картины, то и Ромке, выходит, грозит нешуточная опасность.
– Почему ты так думаешь? – спросила я.
– Потому что утром я закончил копию переделывать, – сказал Ромка, – а в двенадцать он ее забрал и понес этому краеведу отдавать. Он еще сказал, что быстро вернется, они недалеко от музея договорились встретиться. Дмитрич на встречу с ним пошел в скверик, где его убили! Копию в рулончик скатал, в портфельчик свой потертый сунул и говорит: «Сейчас с гонораром вернусь, пойдем пиво пить». Я его ждал, а потом подумал, что он решил без меня пиво пить, и даже обиделся немного. А когда из музея вышел, смотрю, пусто как-то в скверике, обычно в Пьяной аллейке алкашей полно, а сейчас что-то нет ни одного. Я еще присел на лавочку покурить, а ко мне из кустов два милиционера. Ваши документы, говорят! А у меня нет никаких…
– Вспомни, Ром, а этот краевед… Он при тебе приходил к Дмитричу копию заказывать? Ты не помнишь, как он выглядел? – перебила я его.
– Да он вообще не приходил! – сказал Ромка. – Да и не пускают никого посторонних в подвал. Туда чтобы попасть, нужно через хранилище пройти, а в нем знаете какие ценные картины хранятся. А тут еще после аварии – вообще фонды закрыли, даже для специалистов. Директор сказала, что, пока не ликвидируют аварийную ситуацию, никого в фонды не пустит! Это она на мэрию так давит, хочет попробовать еще одно помещение для музея выбить, мне Дмитрич так объяснил.
– Ты, значит, не видел этого краеведа? – спросила я. – И как он выглядит, не знаешь?
– Нет, – помотал головой Ромка. – Не знаю.
– Прекрасно! – сказала я таким тоном, что и Ромка, и Сергей Иванович поняли, что ничего прекрасного я на открывающемся перед Ромкой горизонте не вижу. – Ты капитану этому, что меня в музей вызывал, об этом рассказывал? О копии, которую Фомин с собой унес?
– Нет, – ответил Ромка. – Он же ничего про картину у меня не спрашивал, а я и забыл совсем, что Дмитрич с копией ушел.
– Он тебе телефон свой дал? – спросила я. – Должен был. Капитаны милиции всегда оставляют свои визитные карточки свидетелям, на случай если они что-нибудь вдруг вспомнят еще.
– У него визитки не было, – сказал Ромка. – Он мне на клочке бумаги номер написал. А что, позвонить ему, рассказать про копию?
– Я сама капитану позвоню, – сказала я. – Набери номер.
Ромка еще раз посмотрел в свою бумажку и набрал шесть цифр.
– Капитан Барулин слушает! – раздался в трубке мало похожий на тот, что я сегодня слышала в кабинете директора музея, голос.
Я представилась и прежде всего уточнила одну небольшую деталь, которая вызывала у меня некоторые недоуменные вопросы.
– Простите, капитан, вы сказали, что рядом с убитым сегодня возле музея Фоминым нашли пустую бутылку из-под «Анапы»… Больше ничего не нашли?
– А что-то должно было быть еще? – насторожился капитан. – Что вы имеете в виду?
– Да нет, ничего особенного, – смутилась я, мне почему-то не очень хотелось спрашивать капитана вот так в лоб о копии, сделанной Ромкой, – пришлось бы отвечать на многочисленные вопросы, а я и сама немного пока понимала. – Просто Рома приносил сегодня Фомину свои этюды, чтобы тот посмотрел. Фомин взял их с собой домой, они у него в стареньком, потертом портфельчике лежали…
Некто Семен Фролов из села Терновка Баландинского уезда, зачисленный в кулаки, в знак протеста порезал всю свою скотину в количестве двух коров, лошади и десятка овец. Самого Фролова расстреляли, а семью его выслали в Сибирь, разрешив забрать только личные вещи.
Жена Фролова, то есть уже вдова, кроме разрешенных предметов личного обихода, прихватила и эту картину, которая досталась ее мужу от его отца, ходившего в молодости с бурлаками от Астрахани до Нижнего. До Сибири, однако, Фроловы не доехали.
В Орске – это километров триста к востоку от Оренбурга по железной дороге – Фролова заболела тифом и вместе с двумя взрослыми уже, на выданьи, дочерьми и пятилетним сыном была высажена из товарного состава и отправлена в так называемый тифозный барак. В бреду она все повторяла, что завещает сыну Степе сохранить картину и найти клад, путь к которому эта картина якобы укажет.
Когда она пришла в себя, ее спросили о картине и кладе, но она только смотрела на окружающих с ненавистью, прижимала к себе свои узлы и молчала…
Сергей Иванович перевел дух, сделал маленький глоточек коньяка, подержал его во рту, проглотил и продолжил. Мы с Ромкой слушали с интересом.
– А ночью кто-то зарезал Фролову и все ее семейство, а вещи украл, – сообщил Сергей Иванович. – Наверное, на клад позарился, о котором Фролова в бреду говорила. Скорее всего кто-то из обитателей того же самого тифозного барака. Но и убийце не судьба была в живых долго ходить. Через день нашли его на вокзале умершим от тифа, не успел уехать. При нем нашли и вещи, украденные у убитых им Фроловых. Вещи сожгли, а картину решили передать в Оренбургский музей, вдруг, мол, что-то ценное.
Когда она попала в Оренбург, ее показали известному в то время на Урале профессору живописи Мордовцеву. Он даже руками всплеснул, когда ее увидел.
Этой картине, говорит, цены нет. Про нее среди уральских казаков легенды ходят. Ее якобы нарисовал то ли один из «генералов» Разина, то ли сам Степан Тимофеевич. И что указывает эта картина на место, где Разин спрятал большую часть казны своего войска, пушки перед походом на Москву хотел купить.
Об этом рассказывают из поколения в поколение в селах, где живут уральские казаки. На вопрос, не может ли быть в самом деле связана эта картина каким-либо образом со спрятанными Разиным сокровищами, профессор Мордовцев рассмеялся и ответил, что русский народ любит сказки, часто сам их сочиняет и свято верит в реальность существования придуманных им самим леших, водяных, ведьм, домовых и прочей нечисти.
Почему бы, в таком случае, не верить и в клад, зарытый Разиным перед походом на Москву?
Мордовцев сказал, что картина не имеет художественной ценности, поскольку написана человеком, ничего не знавшим ни о перспективе, ни о пропорциях, но, вполне возможно, что она представляет собой историческую ценность, если только удастся установить время ее написания и какую-то связь с разинским восстанием.
Но Мордовцев примерно через месяц был арестован, поскольку выяснилось, что его сын, штабс-капитан царской армии Николай Мордовцев, руководил в начале двадцатых бандой, промышлявшей под Оренбургом.
Имущество его было описано, частью распродано, частью расползлось по семьям офицеров НКВД. Картина попала к большому любителю старины комиссару Штапову. Он повесил ее у себя над обеденным столом и не боялся никаких провокаций и доносов со стороны сослуживцев – ведь на картине, если верить преданию, изображен был сам Степан Разин, а это имя тогда было в чести – защитник угнетенных, борец против царского самодержавия, а что кровь лили реками, так это – за правое дело.
Году в тридцать втором Штапова перевели в Тарасов, куда он и переехал со всей своей семьей – женой, дочерью и сыном.
Работа у него была разъездная, большей частью – усмирительная. Но в одной из деревень голодающего в то время Поволжья он был зверски убит потомками тех самых угнетенных, картина защитника которых висела над его обеденным столом. Жена его к старине относилась с гораздо меньшим трепетом, она распродала вещи и отправилась с семьей к родственникам в Питер, где и прижилась.
В тридцать восьмом она наведывалась в Тарасов, чтобы попытаться вернуть себе квартиру, которую бросила в Тарасове после смерти мужа. Но из этой попытки ничего не вышло.
Приезжала она как раз во время празднования двадцатилетия образования ВЧК, ее погибший муж был отнесен к разряду героев, и ее подробно расспрашивали о нем газетчики. Тогда-то она и рассказала все, что знала об этой картине. Аркадий Данилов-Тарасовский – был в то время такой известный в городе репортер – попытался разыскать картину, но ему это так и не удалось.
Штапова вспомнила, что картину купил у нее один из сотрудников Тарасовского краеведческого музея, но фамилии его она не знала.
Данилов-Тарасовский облазил все фонды в краеведческом музее, хранилище в художественном, в который в начале тридцатых была отправлена часть фондов музея краеведческого, но картину ему найти не удалось, и он объявил ее пропавшей.
Но, судя по тому, что рассказал Рома, картина вовсе не пропала, а была похоронена в подвале художественного музея. И если бы не копия, которую с нее делал Рома, про нее так бы никто и не вспомнил…
– Но раз кто-то заказал копию, – возразила я, – значит, о том, что картина хранится в музейном подвале, кто-то знал. Мне, правда, не совсем понятно, зачем этому краеведу понадобилась копия картины, которая никакой ценности не имеет.
– Э-э, не скажи, Оленька, – ответил мне Сергей Иванович. – Не забывай, что речь идет о сокровищах самого Разина. Про то, как он расправлялся с купцами и боярами, мало кто в России не слышал. Но что-то не припомню, есть ли где упоминания о том, что кому-то удавалось найти разинские клады.
– Может быть, он и не закапывал никаких кладов? – спросила я.
– Ну, это, знаете ли, предположение в духе нравственной доктрины времен развитого социализма, – улыбнулся Кряжимский. – Раз, мол, боролся за освобождение крестьян, то и никакой корыстью озабочен не должен был быть, о деньгах не думал. Этакий, понимаете ли, воинствующий гомосоциализм…
– Не поняла вашей ассоциации, – сказала я. – При чем здесь?..
– Извращение потому что! – буркнул Сергей Иванович. – У нас историю каждый сочиняет по-своему, как ему нравится. Захочет, Емелю Пугачева благородством наделит, как любили наши классики делать, захочет – из батьки Махно народного героя изобразит. Как уж тут Разина народным заступником не сделать! А народные заступники всегда питали отвращение к идее личного обогащения, это у них в природе заложено!
– Насчет Пушкина вы, Сергей Иванович, между прочим, не правы! – возразила я. – У Пушкина благородство Пугачева выглядит как каприз какой-то, не больше. А Разина сам народ своим заступником считал, вспомните песни о нем, их не один человек сочинял.
– Песни! – фыркнул Кряжимский. – Да народу больше всего запомнилось, как он с беспомощной женщиной расправился! Я понимаю, конечно, этот акт злодейства всем понравился: и мужикам, которых жены всю жизнь пилят, и бабам русским – княжна-то была персиянкой. Значит, туда ей и дорога, не будет русских мужиков соблазнять. В этой песне, если хотите, выражена идея охраны русского генофонда! Очень агрессивная, заметьте, идея!
Ромка слушал нашу болтовню отрешенно, уйдя в себя, и я начала опасаться, что образ убитого Дмитрича опять заслонил ему весь белый свет.
Но оказалось, его мысли приняли совсем иное направление, причем довольно неожиданное как для меня, так и для Кряжимского.
– Послушайте! – сказал вдруг Ромка. – Я теперь понял! Константина Дмитриевича из-за этой картины убили! Это точно!
Я тут же насторожилась. Сами понимаете, почему. Ромка тоже имел самое непосредственное отношение к картине, копию с нее снимал, и если убили художника Фомина действительно из-за картины, то и Ромке, выходит, грозит нешуточная опасность.
– Почему ты так думаешь? – спросила я.
– Потому что утром я закончил копию переделывать, – сказал Ромка, – а в двенадцать он ее забрал и понес этому краеведу отдавать. Он еще сказал, что быстро вернется, они недалеко от музея договорились встретиться. Дмитрич на встречу с ним пошел в скверик, где его убили! Копию в рулончик скатал, в портфельчик свой потертый сунул и говорит: «Сейчас с гонораром вернусь, пойдем пиво пить». Я его ждал, а потом подумал, что он решил без меня пиво пить, и даже обиделся немного. А когда из музея вышел, смотрю, пусто как-то в скверике, обычно в Пьяной аллейке алкашей полно, а сейчас что-то нет ни одного. Я еще присел на лавочку покурить, а ко мне из кустов два милиционера. Ваши документы, говорят! А у меня нет никаких…
– Вспомни, Ром, а этот краевед… Он при тебе приходил к Дмитричу копию заказывать? Ты не помнишь, как он выглядел? – перебила я его.
– Да он вообще не приходил! – сказал Ромка. – Да и не пускают никого посторонних в подвал. Туда чтобы попасть, нужно через хранилище пройти, а в нем знаете какие ценные картины хранятся. А тут еще после аварии – вообще фонды закрыли, даже для специалистов. Директор сказала, что, пока не ликвидируют аварийную ситуацию, никого в фонды не пустит! Это она на мэрию так давит, хочет попробовать еще одно помещение для музея выбить, мне Дмитрич так объяснил.
– Ты, значит, не видел этого краеведа? – спросила я. – И как он выглядит, не знаешь?
– Нет, – помотал головой Ромка. – Не знаю.
– Прекрасно! – сказала я таким тоном, что и Ромка, и Сергей Иванович поняли, что ничего прекрасного я на открывающемся перед Ромкой горизонте не вижу. – Ты капитану этому, что меня в музей вызывал, об этом рассказывал? О копии, которую Фомин с собой унес?
– Нет, – ответил Ромка. – Он же ничего про картину у меня не спрашивал, а я и забыл совсем, что Дмитрич с копией ушел.
– Он тебе телефон свой дал? – спросила я. – Должен был. Капитаны милиции всегда оставляют свои визитные карточки свидетелям, на случай если они что-нибудь вдруг вспомнят еще.
– У него визитки не было, – сказал Ромка. – Он мне на клочке бумаги номер написал. А что, позвонить ему, рассказать про копию?
– Я сама капитану позвоню, – сказала я. – Набери номер.
Ромка еще раз посмотрел в свою бумажку и набрал шесть цифр.
– Капитан Барулин слушает! – раздался в трубке мало похожий на тот, что я сегодня слышала в кабинете директора музея, голос.
Я представилась и прежде всего уточнила одну небольшую деталь, которая вызывала у меня некоторые недоуменные вопросы.
– Простите, капитан, вы сказали, что рядом с убитым сегодня возле музея Фоминым нашли пустую бутылку из-под «Анапы»… Больше ничего не нашли?
– А что-то должно было быть еще? – насторожился капитан. – Что вы имеете в виду?
– Да нет, ничего особенного, – смутилась я, мне почему-то не очень хотелось спрашивать капитана вот так в лоб о копии, сделанной Ромкой, – пришлось бы отвечать на многочисленные вопросы, а я и сама немного пока понимала. – Просто Рома приносил сегодня Фомину свои этюды, чтобы тот посмотрел. Фомин взял их с собой домой, они у него в стареньком, потертом портфельчике лежали…