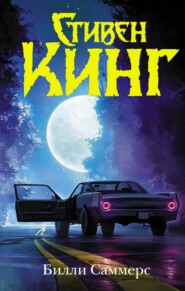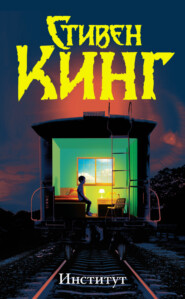По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Лизи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Скотт, помолчи. Все хорошо. Я не…
– Мы называем это кровь-бул. Он особенный. Отец говорил мне и Полу…
– Я не злюсь на тебя. Никогда не злилась.
Он останавливается у первой из скрипящих деревянных ступенек, ведущих к двери на кухню, таращится на нее. Ее блузка неумело завернута вокруг его левой руки, как рыцарская матерчатая перчатка; когда-то желтая, теперь она практически вся красная. Лизи стоит на лужайке в бюстгальтере «мейденформ», чувствует, как трава щекочет голые лодыжки. В тусклом желтом свете фонаря, который льется на них от кухонной двери, ложбинка между грудей прячется в глубокой тени.
– Ты его берешь?
Он смотрит на нее с такой детской мольбой. Мужчины в нем более не осталось. Она видит боль в его неотрывном, жаждущем взгляде, и ей понятно, что боль эта вызвана не порезанной рукой, но она не знает, что ей сказать. Просто представить себе не может. Наверное, она может предложить ему перевязать руку, и с этим она бы справилась, но в данный момент словно окаменела. Именно это она должна сказать? А может, именно этого говорить и нельзя? Может, от этих слов он вновь побежит к теплице, чтобы порезать вторую руку?
Он помогает ей.
– Если ты берешь бул, особенно кровь-бул, тогда извинение принимается. Отец так говоил. Отец говоил это мне и Полу снова и снова.
Не говорил, а говоил. Детское произношение. О Господи.
– Полагаю, возьму, – говорит Лизи, – потому что я с самого начала не хотела смотреть этот чертов шведский фильм с субтитрами. У меня болят ноги. Я просто хотела лечь с тобой в постель. А теперь смотри, вместо этого мы должны ехать в отделение неотложной помощи.
Он качает головой, медленно, но решительно.
– Скотт…
– Если ты не злилась на меня, почему ты обзывала всеми этими дурными словами?
Всеми этими дурными словами. Конечно же, еще одна почтовая открытка из детства. Она это отмечает, дает себе зарок подумать об этом позже.
– Потому что я больше не могла кричать на мою сестру, – говорит она. Объяснение кажется ей забавным, и она начинает смеяться. Смеется, не в силах остановиться, и собственный смех так шокирует ее, что она начинает плакать. Потом чувствует, что голова идет кругом. Опускается на ступеньки, думая, что сейчас лишится чувств.
Скотт садится рядом. Ему двадцать четыре года, волосы отросли почти до плеч, на щеках двухдневная щетина, и он стройный, как линейка. Его левая кисть одета в ее блузку, один рукав развернулся и висит. Скотт целует ее в пульсирующую впадину виска, потом смотрит с обожанием, все понимая. Когда начинает говорить, становится практически прежним Скоттом.
– Я понимаю. Семьи засасывают.
– Это точно, – шепчет она.
Он обнимает ее левой рукой, которую она уже воспринимает кровь-бульной рукой, его подарком ей, его безумным долбаным подарком в пятничную ночь.
– Они не должны иметь значения в жизни человека, – говорит он. Голос на удивление спокоен. Словно он только что не превратил левую руку в кровоточащую рану. – Послушай, Лизи: люди могут забыть все.
Она с сомнением смотрит на него.
– Могут?
– Да. Теперь пришло наше время. Ты и я. Вот что имеет значение.
«Ты и я». Но она действительно этого хочет? Теперь, когда она видит, на какой тонкой проволоке он балансирует. Теперь, когда она получила наглядное представление, какой может быть совместная с ним жизнь. Потом она думает об ощущениях, которые вызывают прикосновения его губ к височной впадине, прикосновения к этому особому тайному местечку, и думает: «Может, и хочу. Разве не у каждого тайфуна есть глаз?»
– Правда? – спрашивает она.
Несколько секунд он молчит. Только обнимает ее. Из паршивенького центра Кливса доносится рев двигателей, крики, дикий, истерический смех. Пятница, вечер, вот неудачники-изгои и веселятся. Но здесь все по-другому. Здесь только напоенный ароматами цветов длинный, пологий склон холма, лай Плутона под фонарем в соседнем дворе, ощущение обнимающей руки Скотта. Даже теплая, влажная тяжесть раненой руки успокаивает, пусть капли крови клеймят ее тело.
– Крошка, – говорит он.
Пауза.
– Любимая, – продолжает он.
Для Лизи Дебушер, которой надоела ее семья, но которая в не меньшей степени устала жить одна, этого достаточно. Наконец-то достаточно. Он позвал ее домой, и в темноте она сдается Скотту, которого видит в нем. И с этого момента до самого конца ни разу не оглянется.
18
Когда они вновь на кухне, она разматывает блузку и осматривает раненую руку. Глядя на нее, вновь чувствует, что готова плюхнуться в обморок. Свет над головой становится очень ярким, с тем чтобы погрузить ее во тьму. Но она борется, пытается не потерять сознание, и ей это удается, потому что она говорит себе: «Я ему нужна. Я ему нужна, чтобы отвезти его в отделение неотложной помощи в Дерри-Хоум».
Каким-то образом ему удалось не порезать вены, которые находятся у самой кожи на запястье, но глубокие раны рассекают ладонь в четырех местах, кое-где кожа висит, как отклеившиеся обои, а кроме того, порезаны, как говорил ее отец, «три толстых пальца». Еще одна рана – жуткий порез на предплечье, из которого, как акулий плавник, торчит треугольник толстого зеленого стекла. Она слышит, как с ее губ слетает беспомощное: «О-ох», – когда он выдергивает осколок (небрежно так, словно мимоходом) и бросает в мусорное ведро. При этом пропитанную кровью блузку он держит под кистью и предплечьем, определенно стараясь не запачкать кровью пол кухни. Несколько капель все-таки падают на линолеум, это такая малость в сравнении с количеством вытекшей из ран крови. На кухне у нее есть высокий стул, на котором она сидит, когда чистит овощи или моет посуду (когда человек на ногах по восемь часов в день, он использует каждую возможность присесть), и Скотт подвигает его к себе одной ногой и садится так, чтобы кровь с руки капала в раковину. Он говорит, что объяснит ей, как и что нужно сделать.
– Ты должен пойти в отделение неотложной помощи, – говорит она ему. – Скотт, прояви благоразумие. В руке полно сухожилий и еще много чего. Ты хочешь потерять возможность пользоваться рукой? Потому что такое может случиться! Ты останешься без руки! Если ты беспокоишься из-за того, что они скажут, придумай какую-нибудь историю, в этом ты мастер, а я тебя поддержу.
– Если завтра ты захочешь, чтобы я пошел в больницу, я пойду, – говорит он ей. Теперь он уже совершенно нормальный Скотт, и его обаяние действует гипнотически. – От этого я сегодня не умру, кровотечение уже практически прекратилось, а кроме того, ты знаешь, что такое отделение неотложной помощи в ночь с пятницы на субботу? Пьяницы на параде! Прийти туда в субботу утром куда как лучше. – Теперь он уже улыбается, его улыбка однозначно говорит: «Родная моя, у меня все хорошо», – почти что требует ответной улыбки, она пытается не поддаваться, но проигрывает эту битву. – А кроме того, все Лэндоны поправляются очень быстро. По-другому нам нельзя. Сейчас я расскажу тебе, что нужно делать.
– Ты ведешь себя так, словно вышибал стекла в десятке теплиц.
– Нет. – Его улыбка немного вянет. – До этой ночи никогда не вышибал стекла в теплице. Но я многое знал о ранах и травмах. Мы оба знали, Пол и я.
– Он был твоим братом?
– Да. Он умер. Набери таз теплой воды, Лизи, хорошо? Теплой, но не горячей.
Она хочет задать ему всякие и разные вопросы о его брате,
(Отец говоил Полу и мне снова и снова)
раньше она и не подозревала, что у Скотта был брат, но сейчас не время. Не собирается она и уговаривать его ехать в отделение неотложной помощи, во всяком случае, немедленно. Во-первых, если он согласится, за руль придется садиться ей, а она не уверена, что справится, потому что внутри все дрожит. И он прав насчет кровотечения, оно уже далеко не такое сильное. Возблагодарим Бога за маленькие радости.
Лизи достает белый пластмассовый таз (купленный в гипермаркете «Маммот-Март» за семьдесят девять центов) из-под раковины и наполняет его теплой водой. Он опускает в воду порезанную руку. Поначалу все в порядке: щупальца крови, которые тянутся к поверхности, ее не смущают. Но когда он начинает второй рукой потирать раненую, вода становится розовой, и Лизи отворачивается, спрашивая его, почему, во имя Господа, он вновь вызывает кровотечение.
– Я хочу точно знать, что раны чистые, – отвечает он. – Они должны быть чистыми, когда мы… – Пауза, потом он заканчивает предложение: – Ляжем в постель. Я могу остаться у тебя, могу? Пожалуйста!
– Да, – кивает она, – конечно, ты можешь. – И думает: «Ты собирался сказать совсем другое».
Когда он приходит к выводу, что рука в достаточной степени отмокла, то сам выливает кровавую воду, освобождая Лизи от этой обязанности, потом показывает ей свою руку. Влажные и блестящие порезы выглядят уже не такими опасными, и одновременно они ужасны, чем-то напоминают рыбьи жабры, розовые сверху, в глубине переходящие в красноту.
– Могу я воспользоваться твоей коробочкой с пакетиками чая, Лизи? Я куплю тебе новую, обещаю. Я вот-вот должен получить чек за потиражные. Более чем на пять тысяч долларов. Мой агент поклялся честью своей матери. Тот факт, что у него была мать, сказал я ему, для меня новость. Это, между прочим, шутка.
– Я знаю, что это шутка, я не такая тупая…
– Ты совсем не тупая.
– Скотт, зачем тебе целая коробочка чайных пакетиков?
– Мы называем это кровь-бул. Он особенный. Отец говорил мне и Полу…
– Я не злюсь на тебя. Никогда не злилась.
Он останавливается у первой из скрипящих деревянных ступенек, ведущих к двери на кухню, таращится на нее. Ее блузка неумело завернута вокруг его левой руки, как рыцарская матерчатая перчатка; когда-то желтая, теперь она практически вся красная. Лизи стоит на лужайке в бюстгальтере «мейденформ», чувствует, как трава щекочет голые лодыжки. В тусклом желтом свете фонаря, который льется на них от кухонной двери, ложбинка между грудей прячется в глубокой тени.
– Ты его берешь?
Он смотрит на нее с такой детской мольбой. Мужчины в нем более не осталось. Она видит боль в его неотрывном, жаждущем взгляде, и ей понятно, что боль эта вызвана не порезанной рукой, но она не знает, что ей сказать. Просто представить себе не может. Наверное, она может предложить ему перевязать руку, и с этим она бы справилась, но в данный момент словно окаменела. Именно это она должна сказать? А может, именно этого говорить и нельзя? Может, от этих слов он вновь побежит к теплице, чтобы порезать вторую руку?
Он помогает ей.
– Если ты берешь бул, особенно кровь-бул, тогда извинение принимается. Отец так говоил. Отец говоил это мне и Полу снова и снова.
Не говорил, а говоил. Детское произношение. О Господи.
– Полагаю, возьму, – говорит Лизи, – потому что я с самого начала не хотела смотреть этот чертов шведский фильм с субтитрами. У меня болят ноги. Я просто хотела лечь с тобой в постель. А теперь смотри, вместо этого мы должны ехать в отделение неотложной помощи.
Он качает головой, медленно, но решительно.
– Скотт…
– Если ты не злилась на меня, почему ты обзывала всеми этими дурными словами?
Всеми этими дурными словами. Конечно же, еще одна почтовая открытка из детства. Она это отмечает, дает себе зарок подумать об этом позже.
– Потому что я больше не могла кричать на мою сестру, – говорит она. Объяснение кажется ей забавным, и она начинает смеяться. Смеется, не в силах остановиться, и собственный смех так шокирует ее, что она начинает плакать. Потом чувствует, что голова идет кругом. Опускается на ступеньки, думая, что сейчас лишится чувств.
Скотт садится рядом. Ему двадцать четыре года, волосы отросли почти до плеч, на щеках двухдневная щетина, и он стройный, как линейка. Его левая кисть одета в ее блузку, один рукав развернулся и висит. Скотт целует ее в пульсирующую впадину виска, потом смотрит с обожанием, все понимая. Когда начинает говорить, становится практически прежним Скоттом.
– Я понимаю. Семьи засасывают.
– Это точно, – шепчет она.
Он обнимает ее левой рукой, которую она уже воспринимает кровь-бульной рукой, его подарком ей, его безумным долбаным подарком в пятничную ночь.
– Они не должны иметь значения в жизни человека, – говорит он. Голос на удивление спокоен. Словно он только что не превратил левую руку в кровоточащую рану. – Послушай, Лизи: люди могут забыть все.
Она с сомнением смотрит на него.
– Могут?
– Да. Теперь пришло наше время. Ты и я. Вот что имеет значение.
«Ты и я». Но она действительно этого хочет? Теперь, когда она видит, на какой тонкой проволоке он балансирует. Теперь, когда она получила наглядное представление, какой может быть совместная с ним жизнь. Потом она думает об ощущениях, которые вызывают прикосновения его губ к височной впадине, прикосновения к этому особому тайному местечку, и думает: «Может, и хочу. Разве не у каждого тайфуна есть глаз?»
– Правда? – спрашивает она.
Несколько секунд он молчит. Только обнимает ее. Из паршивенького центра Кливса доносится рев двигателей, крики, дикий, истерический смех. Пятница, вечер, вот неудачники-изгои и веселятся. Но здесь все по-другому. Здесь только напоенный ароматами цветов длинный, пологий склон холма, лай Плутона под фонарем в соседнем дворе, ощущение обнимающей руки Скотта. Даже теплая, влажная тяжесть раненой руки успокаивает, пусть капли крови клеймят ее тело.
– Крошка, – говорит он.
Пауза.
– Любимая, – продолжает он.
Для Лизи Дебушер, которой надоела ее семья, но которая в не меньшей степени устала жить одна, этого достаточно. Наконец-то достаточно. Он позвал ее домой, и в темноте она сдается Скотту, которого видит в нем. И с этого момента до самого конца ни разу не оглянется.
18
Когда они вновь на кухне, она разматывает блузку и осматривает раненую руку. Глядя на нее, вновь чувствует, что готова плюхнуться в обморок. Свет над головой становится очень ярким, с тем чтобы погрузить ее во тьму. Но она борется, пытается не потерять сознание, и ей это удается, потому что она говорит себе: «Я ему нужна. Я ему нужна, чтобы отвезти его в отделение неотложной помощи в Дерри-Хоум».
Каким-то образом ему удалось не порезать вены, которые находятся у самой кожи на запястье, но глубокие раны рассекают ладонь в четырех местах, кое-где кожа висит, как отклеившиеся обои, а кроме того, порезаны, как говорил ее отец, «три толстых пальца». Еще одна рана – жуткий порез на предплечье, из которого, как акулий плавник, торчит треугольник толстого зеленого стекла. Она слышит, как с ее губ слетает беспомощное: «О-ох», – когда он выдергивает осколок (небрежно так, словно мимоходом) и бросает в мусорное ведро. При этом пропитанную кровью блузку он держит под кистью и предплечьем, определенно стараясь не запачкать кровью пол кухни. Несколько капель все-таки падают на линолеум, это такая малость в сравнении с количеством вытекшей из ран крови. На кухне у нее есть высокий стул, на котором она сидит, когда чистит овощи или моет посуду (когда человек на ногах по восемь часов в день, он использует каждую возможность присесть), и Скотт подвигает его к себе одной ногой и садится так, чтобы кровь с руки капала в раковину. Он говорит, что объяснит ей, как и что нужно сделать.
– Ты должен пойти в отделение неотложной помощи, – говорит она ему. – Скотт, прояви благоразумие. В руке полно сухожилий и еще много чего. Ты хочешь потерять возможность пользоваться рукой? Потому что такое может случиться! Ты останешься без руки! Если ты беспокоишься из-за того, что они скажут, придумай какую-нибудь историю, в этом ты мастер, а я тебя поддержу.
– Если завтра ты захочешь, чтобы я пошел в больницу, я пойду, – говорит он ей. Теперь он уже совершенно нормальный Скотт, и его обаяние действует гипнотически. – От этого я сегодня не умру, кровотечение уже практически прекратилось, а кроме того, ты знаешь, что такое отделение неотложной помощи в ночь с пятницы на субботу? Пьяницы на параде! Прийти туда в субботу утром куда как лучше. – Теперь он уже улыбается, его улыбка однозначно говорит: «Родная моя, у меня все хорошо», – почти что требует ответной улыбки, она пытается не поддаваться, но проигрывает эту битву. – А кроме того, все Лэндоны поправляются очень быстро. По-другому нам нельзя. Сейчас я расскажу тебе, что нужно делать.
– Ты ведешь себя так, словно вышибал стекла в десятке теплиц.
– Нет. – Его улыбка немного вянет. – До этой ночи никогда не вышибал стекла в теплице. Но я многое знал о ранах и травмах. Мы оба знали, Пол и я.
– Он был твоим братом?
– Да. Он умер. Набери таз теплой воды, Лизи, хорошо? Теплой, но не горячей.
Она хочет задать ему всякие и разные вопросы о его брате,
(Отец говоил Полу и мне снова и снова)
раньше она и не подозревала, что у Скотта был брат, но сейчас не время. Не собирается она и уговаривать его ехать в отделение неотложной помощи, во всяком случае, немедленно. Во-первых, если он согласится, за руль придется садиться ей, а она не уверена, что справится, потому что внутри все дрожит. И он прав насчет кровотечения, оно уже далеко не такое сильное. Возблагодарим Бога за маленькие радости.
Лизи достает белый пластмассовый таз (купленный в гипермаркете «Маммот-Март» за семьдесят девять центов) из-под раковины и наполняет его теплой водой. Он опускает в воду порезанную руку. Поначалу все в порядке: щупальца крови, которые тянутся к поверхности, ее не смущают. Но когда он начинает второй рукой потирать раненую, вода становится розовой, и Лизи отворачивается, спрашивая его, почему, во имя Господа, он вновь вызывает кровотечение.
– Я хочу точно знать, что раны чистые, – отвечает он. – Они должны быть чистыми, когда мы… – Пауза, потом он заканчивает предложение: – Ляжем в постель. Я могу остаться у тебя, могу? Пожалуйста!
– Да, – кивает она, – конечно, ты можешь. – И думает: «Ты собирался сказать совсем другое».
Когда он приходит к выводу, что рука в достаточной степени отмокла, то сам выливает кровавую воду, освобождая Лизи от этой обязанности, потом показывает ей свою руку. Влажные и блестящие порезы выглядят уже не такими опасными, и одновременно они ужасны, чем-то напоминают рыбьи жабры, розовые сверху, в глубине переходящие в красноту.
– Могу я воспользоваться твоей коробочкой с пакетиками чая, Лизи? Я куплю тебе новую, обещаю. Я вот-вот должен получить чек за потиражные. Более чем на пять тысяч долларов. Мой агент поклялся честью своей матери. Тот факт, что у него была мать, сказал я ему, для меня новость. Это, между прочим, шутка.
– Я знаю, что это шутка, я не такая тупая…
– Ты совсем не тупая.
– Скотт, зачем тебе целая коробочка чайных пакетиков?