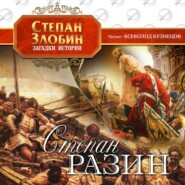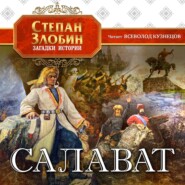По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров Буян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Боком, боком промчалась по серому небу без крика необычайно молчаливая галочья стая…
Томила снял шапку, чтобы перекреститься, но вместо того вдруг крепко прижал ее к лицу и, не глядя, спотыкаясь, побрел вдоль улицы, сам не зная куда, без цели и смысла. На пути его попалась бревенчатая стена какого-то домишка. Томила прильнул к ней и так молча остался стоять, не решаясь взглянуть в лицо наступавшего дня…
6
Город был окружен кольцом.
От Московской дороги на север до самой Великой стояли стрельцы и дворянские сотни Мещерского и Хованского. Они отрезали Новгород, Порхов и Гдов. От Московской дороги на юг, перерезав Смоленскую, стали лужские Казаки, и, наконец, перейдя Великую, замкнули кольцо заонежские солдаты, отняв дорогу на Изборск и на Остров.
В последние дни по городу шел слух о том, что крестьяне пригонят скот на убой и большой обоз хлеба. Теперь все надежды пропали…
Народ бранил за оплошность всегородних старост. В толпах, сбиравшихся по перекресткам, ворчали, что старостам вместо усобицы надобно было подумать о ратных делах.
Бранили Гаврилу за то, что не занял раньше Пантелеймоновский монастырь…
Народ ждал новых лишений.
Когда ударил сполох, все были заранее в сборе на Рыбницкой площади.
Перед смятенной толпой выступил прежде других пятидесятник Неволя. Он был выборным от стрельцов и сидел во Всегородней избе все время с начала восстания, как Томила Слепой, как Михайла Мошницын, как выборные стрельцы Прохор Коза, Максим Яга и другие.
Народ знал Неволю как одного из вожаков восстания.
– Братцы! – воскликнул Неволя. – Пропадаем, братцы. Нечем дыхнуть. Повсюду стрельцы да пушки… Пришло с государем мириться!..
Поп Яков и Мошницын в смятении переглянулись. Стрелец Копыто схватился за саблю, но в народе раздался ответный клич:
– Пропадаем, Ефим. Дыхнуть нечем!
И Неволя, ободренный народным кличем, осмелел:
– Величался Гаврилка Демидов, лез в старосты, а зачем лез Гаврилка? Для бездельной корысти, – сказал Неволя. – Пришла на город беда, прилезли солдаты. Где же наши старосты, господа? Где воевода народный?! Пьяный лежит Гаврила! До чего допился – Томилу Слепого за боярина принял, хотел пытать! Куда его деть? В тюрьму его, братцы! Город он пропил!..
– Брешешь ты! – крикнул Михайла, поняв, что случилось во Всегородней избе.
– Молчи, кликун! – заорал Захарка на кузнеца. – Загубили мир, да и беситесь, как собаки!
Михайла сжал кулаки, услышав слова Захарки.
– Помолчи, Михайла, – успокоил поп Яков, – не распаляй народ: после скажешь…
А Неволя Сидоров продолжал:
– Как началась гиль, уговаривал я вас, братцы, не делать насильства и всякого худа. Гнали меня, не слушали. Вижу – народ велит встать с ружьем, и я встал. Измены кто от меня видел? И я за народ стоял по стенам и в бой не по разу вылазил, с дворянами бился, грех приимал… Во всем был в думе с заводчиками, а ныне, братцы, что делать нам, городу?
– Сказывай, как ты мыслишь! – крикнули из толпы старых стрельцов.
Народ слушал Неволю не потому, что был он умен, не потому, что его любили и знали, а потому, что Неволя сегодня читал в сердце народном и говорил то, что думал смятенный, напуганный окружением города и усталый от осады народ.
Неволя сказал, что мыслит «обрать новых старост», которые спасут город от царского гнева и помирят с царем.
– Как Мишке Мошницыну к мировой гнуть, коли царь его смертью казнить велел! Как ему добром порешить, коли все спасение его в мятеже: не станет гили – и Мишки не станет, а Мишка из страха вас всех за собой поведет под топор… А надобно, господа, обрать таких новых старост, коих весь город знает да коих и царь казнить не велел. И те старосты для своей корысти от мира город не станут клонить…
Если бы вздумал Неволя молвить такие слова три дня назад, его бы стащили с дощана и разорвали в клочья, но сегодня слушали его со вниманием, и отдельные крики протеста заглохли в одобрительном гуле голосов.
Когда же Прохор Коза влез на дощан, чтобы сказать свое слово после Неволи, старые стрельцы из толпы закричали:
– Слазь, не то из пищалей побьем! Слазь, гилевской голова! Ты с Гаврилкой в совете был! Спьяну друг дружку пыхали, бражники!
Прохор махнул рукой и соскочил с дощана.
Тогда вышел Левонтий Бочар и рассказал о том, как ночью в Гремячей башне пьяный Гаврила буянил вдвоем с пьяным разбойником Пястом, пытая невинных людей…
Бочар обозвал Гаврилу изменщиком, и тогда внезапно народ закричал:
– Сам ты изменщик! Ступай к сатане! Брехун!
Мошницын увидел, что народ все же любит хлебника и верит ему.
Он решил, что теперь, когда Бочар просчитался, пора вступить в спор. Стоявший рядом поп Яков подтолкнул его локтем. Михайла шагнул к дощану, но его опередил стрелецкий пятидесятник Абрам Гречин.
Гречин заговорил о том, что хотя Гаврила и не изменник, но в самый опасный час напился и проспал городскую беду…
– Бывает, господа, что сын родной напаскудит, – сказал Абрам, – не убить насмерть батьке того сына, а возьму я добрый дубец да сына гораздо жахну, чтобы не клецкался, бельмы не наливал…
В народе послышался одобрительный смех.
– А плакать станет, скажу: сам, Савостенька, виноват!
И народ засмеялся, потому что Савостенька Гречин, гуляка, сын пятидесятника, стоял тут же у дощана и смутился словами отца.
– Так и с хлебником нашим Гаврилой: наш староста, нашу руку во всем держал, да нажрался винища и стал не свой… На мой бы ндрав, так палкой такого, а миру неладно старосту палкой. Ну, ин в тюрьму его на неделю, а то на три дни, а там и пустить на волю, да только не в старосты!.. – Кругом одобрительно загудели.
– Тебя, что ли, старостой?! – крикнул Михайла.
– Пошто меня? – отозвался Абрам. – Получше меня есть люди: Михайла Русинов али Неволя чем вам не старосты?!
– Больших руку тянешь! – крикнул Агапка-пуговичник.
– Под воеводу хошь! – поддержал Агапку Прохор Коза. – Я скажу, как меня нынче ночью за правду…
– А ну вас! Не даете сказать, то не надо! – Абрам Гречин махнул рукой и спрыгнул в толпу.
Тогда зашумел народ:
– Говори, Абрам, говори!
Гречин снова залез на дощан.
Другие аудиокниги автора Степан Павлович Злобин
Салават




 0
0