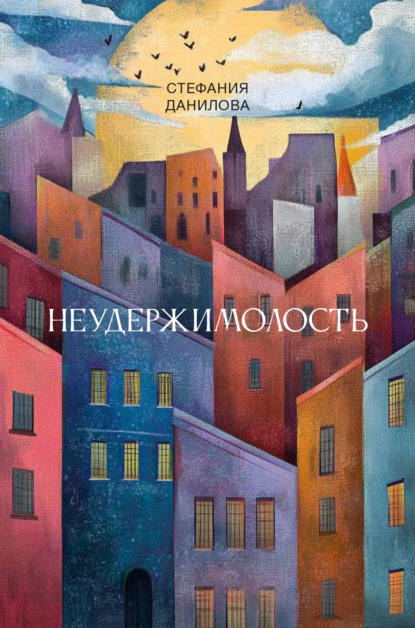По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Неудержимолость
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и мириады лиц
соединяли в нас
свои
черты.
«Во мне сейчас говорит усталость, мне не под силу…»
Во мне сейчас говорит усталость, мне не под силу
перевести всю речь, что после нее осталась засохшей
глиной в моей горсти. Я из нее бы слепила Будду, каким
он видится мне во сне, но получается кукла вуду и я не
знаю, что делать с ней.
Во мне вчера говорили вирши, но замолчали наперебой,
и небеса несомненно выше, чем прибережный морской
прибой. Была б я этими небесами, была бы каждой из
чаек в нем, когда бы мне не понаписали про то, что на-
добно быть огнём, ты что, ведь это кому-то нужно, ведь
есть и путники, и дожди. Я незамужня, я бесподружна,
мной ненавидимо слово «жди».
И я б грешила напропалую, и отдавала бы за гроши
себя, истасканную и злую, зачем вам я как ловец во
ржи? Все только падают в эту бездну, предупреждениям
вопреки, и нет, наверное, бесполезней моей протянутой
к ним руки. Вот потому ни руки, ни сердца, раз ни кола,
ни двора нема, отец нахмурен и мама сердится, что доч-
ка горькая от ума, а быть бы сладкой, а быть бы слабой и
не разыскивать по уму, но нет со мной никакого сладу
уже, наверное, никому.
Во мне сейчас говорит усталость, но ей недолго еще
толкать дурные речи свои осталось с пятиметрового по-
толка. Во мне, сама того не желая, спит сердоликовая
сова, но между делом, она живая. Она готовит свои сло-
ва. Я приготовила летом сани и для зимы запаслась огнём.
Я буду этими небесами.
Я буду каждой из чаек в нем.
Сентябрьское письмо тебе
Твой дневник мёртв с четвертого марта,
как и дом, в чьих окошках ни зги.
Как прокуренный тамбур плацкарта,
где, себя не найдя от тоски,
я звонила тебе, проезжая
петербургских окраин леса,
и большая была пребольшая
наша ночь, что длиной в полчаса.
У тебя есть веселые детки.
Ты их учишь ча-ща и жи-ши.
Понарошечку, исподволь, редко,
ненадолго, чуть-чуть, но пиши
мне о том, кто пятерку получит,
кто четверку, а кто и трояк,
расскажи, чем они меня лучше,
почему я совсем не твоя.
соединяли в нас
свои
черты.
«Во мне сейчас говорит усталость, мне не под силу…»
Во мне сейчас говорит усталость, мне не под силу
перевести всю речь, что после нее осталась засохшей
глиной в моей горсти. Я из нее бы слепила Будду, каким
он видится мне во сне, но получается кукла вуду и я не
знаю, что делать с ней.
Во мне вчера говорили вирши, но замолчали наперебой,
и небеса несомненно выше, чем прибережный морской
прибой. Была б я этими небесами, была бы каждой из
чаек в нем, когда бы мне не понаписали про то, что на-
добно быть огнём, ты что, ведь это кому-то нужно, ведь
есть и путники, и дожди. Я незамужня, я бесподружна,
мной ненавидимо слово «жди».
И я б грешила напропалую, и отдавала бы за гроши
себя, истасканную и злую, зачем вам я как ловец во
ржи? Все только падают в эту бездну, предупреждениям
вопреки, и нет, наверное, бесполезней моей протянутой
к ним руки. Вот потому ни руки, ни сердца, раз ни кола,
ни двора нема, отец нахмурен и мама сердится, что доч-
ка горькая от ума, а быть бы сладкой, а быть бы слабой и
не разыскивать по уму, но нет со мной никакого сладу
уже, наверное, никому.
Во мне сейчас говорит усталость, но ей недолго еще
толкать дурные речи свои осталось с пятиметрового по-
толка. Во мне, сама того не желая, спит сердоликовая
сова, но между делом, она живая. Она готовит свои сло-
ва. Я приготовила летом сани и для зимы запаслась огнём.
Я буду этими небесами.
Я буду каждой из чаек в нем.
Сентябрьское письмо тебе
Твой дневник мёртв с четвертого марта,
как и дом, в чьих окошках ни зги.
Как прокуренный тамбур плацкарта,
где, себя не найдя от тоски,
я звонила тебе, проезжая
петербургских окраин леса,
и большая была пребольшая
наша ночь, что длиной в полчаса.
У тебя есть веселые детки.
Ты их учишь ча-ща и жи-ши.
Понарошечку, исподволь, редко,
ненадолго, чуть-чуть, но пиши
мне о том, кто пятерку получит,
кто четверку, а кто и трояк,
расскажи, чем они меня лучше,
почему я совсем не твоя.