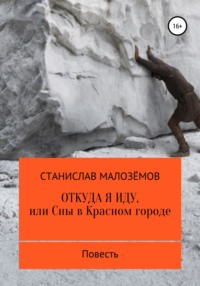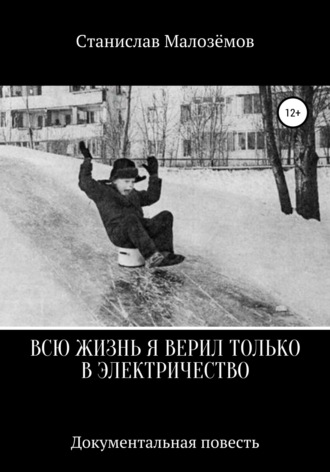
Всю жизнь я верил только в электричество
– Я вам сейчас покажу ещё один дом. Он тут рядом. С ним всё в порядке. Идеально выглядит. Потом пройдем по пути в гостиницу мимо Дома правительства и Центрального комитета партии Казахской республики. В этом здании работает сам Кунаев. Ну, кстати, домов таких размеров в республике нашей больше нет. Интересно?
После жуткого чувства, оставшегося от десятиминутной пробежки по ободранному краеведческому музею, засевшему в храме Божьем, нам было интересно всё, что на бывший храм не похоже. И мы поплелись мимо ободранных стен огромного здания через маленький парк, который вырастили на старом церковном кладбище, ещё к одному уникальному дому из дерева.
– Другие шедевры наших лучших архитекторов из камня, из кирпича выложены. Того же Зенкова, к примеру. Красивые – не передать. Но все их мы не успеем даже мельком посмотреть, – Николай Яковлевич с сожалением цокнул языком.– Времени у нас просто нет, считай. Но соревнования-то не последние. Потом и досмотрим, что сегодня не успели.
Мы вышли из частокола заслоняющих вид вперед сосенок молодых и обомлели. Слева направо, или наоборот, раскинулся метров на пятьдесят деревянный чудо теремок. На нем обычного бревенчатого пространства было немного. Так казалось. Потому, что башенки над крышей, фронтон, окна, лестницы и перила, наличники – все было вырезано из дерева неповторимыми вензелями и орнаментами. Дом тот, серьёзно, не был похож на дом. Это было какое-то сказочное наваждение. Но его никто не охранял и мы всё, до чего дотянулись, потрогали, забрали ладонями в себя на память тепло старины и дыхание всё ещё живого дерева.
– Что это за чудо?– спросила почему-то шепотом девочка из команды, которая будто окаменела, вытаращив глаза и стоя по стойке смирно.
– Это тоже творение великого архитектора Зенкова. С 1908 года здесь работало верненское офицерское собрание, а сейчас тут Дом офицеров.
– А Вы откуда знаете это всё? – дернул я за рукав тренера. – Вы ж тренер, а не экскурсовод. Вам надо в Алма-Ату переезжать и экскурсии проводить. С такими знаниями вас на части рвать будут!
– Мне и в Кустанае хорошо, – засмеялся тренер. – А сюда я езжу в год раз по пять. И от центрального музея всегда было много разных экскурсий. А я большой любитель новое узнавать. Особенно о своей стране. Как только свободное время, я бегу на экскурсию. За день на автобусе экскурсионном всё не успевали объехать, столько тут интересного из прошлого нашего. Ну, теперь вот и сам кое-что знаю.
Все почему-то тренеру стали аплодировать. Он засмущался как мальчик и быстренько скомандовал: – Всё! Время летит. Пошли последний на сегодня объект смотреть, да на ужин пора.
При слове ужин все встрепенулись, собрали силы и толпой двинулись вверх. На тот самый верхний верх, выше которого расположились и управляли судьбами нашими Центральный комитет партии, правительство и сам товарищ Кунаев, народный любимец и уважаемый во всём СССР человек и правитель.
Через причёсанный, постриженный и облагороженный гладиолусами, каннами и розами всех оттенков сквер, состоящий из асфальтовых дорожек, огромного количества кустов сирени, боярышника, белой акции и живой изгороди из бирючины, которая не пускала увлекающихся граждан на клумбы и лужайки, мы выбрались к стене слишком уж большого здания. Голову надо было поднять до хруста в шее, чтобы увидеть крышу. Поразило количество огромных окон на четырех этажах. Мы стояли перед стеной минут десять, и я успел насчитать только сто семь. Но это были не все окна. Налево глянешь – угол дома почти не виден, а посмотришь направо – совсем близко конец здания. Метров пятьдесят, может. Места перед домом мало. Одна узкая дорога для машин почти у самого фундамента. Узенькая тропинка грунтовая для редких пешеходов. Стена сделана то ли из почти драгоценного камня, то ли из такого заменителя, похожего на однотонный агат без разводов. Я на кустанайских карьерах, где железную руду добывали, насобирал в отвалах столько драгоценных и почти драгоценных камней, что если бы моё увлечение детское не скрывал ото всех, кроме трёх дорогих и верных друзей, то меня давно бы ограбили и на всякий случай прикончили.
– Вот это и есть Центральный комитет? – удивился я вслух. Потому как мрачноватым мне показался фасад с глубоко утопленными в него дубовыми рамами окон. Единственный вход внутрь с колоннами перед дверьми. А двери высоченные и тоже дубовые, к ним надо было добираться по двадцати ступенькам из серого мрамора.
– Тут Верховный совет. Это тыльная часть Дома правительства, – Николай Яковлевич повернулся направо. Все сделали то же самое. – А нам туда надо. С той стороны вход в Совет министров. Но нам он тоже ни к чему. Мы там в скверике погуляем возле очень красивых фонтанов. Освежимся слегка под брызгами, потом обогнем дом в левую сторону и попадём на главную площадь столицы. Там парады проходят на Первомай и седьмого ноября. А на другой стороне площади – огромный сквер. Цветов море. Люди гуляют – отдыхают. А перед сквером стоит самый большой в стране памятник Ленину. Больше, чем в Москве!
– Да ну! – не поверили все хором.
– Ну, может, конечно, и не больше. Но вот в нашей республике таких больших точно нет.
От фонтанов уходить не хотелось. Их было три, по моему. Или два. Сейчас точно не вспомню. Бордюры фонтанов – из гранита красного. Пять струй били метров на десять вверх. Там зависали и рассыпались брызгами на несколько десятков детей в трусиках, скачущих по гранитному кругу, прыгающих в воде, которой им было по пояс. Шум с визгом стоял такой, что только звуконепроницаемые двухслойные стекла позволяли правительству делать важную государственную работу. Над фонтаном, у которого мы ловили россыпь мельчайших брызг, висела радуга. Дети с бордюра подпрыгивали и тыкали в неё пальцем, плескали водой из гранитной чащи и старались либо сбить её на воду, либо подкинуть водой ещё выше. На скамеечках, вдоль фонтанов установленных, с радостными лицами сидели бабушки, папы и мамы детей. Им тоже перепадало и свежести от брызг и счастья от беснующихся между радугой и водой их резвых и здоровеньких потомков.
И вот, освежившись и вдохнув побольше воздуха, наполненного мельчайшими капельками, мы прошли прямо по широкому парапету перед главным входом в этот необыкновенно красивый и торжественный дом, покрутились вокруг колонн напротив трёх монументальных дверей, которые вели в Центральный комитет партии.
– Может постоим тут, подождем? – Спросил я тренера.– Рабочий день кончается. Может и Кунаев скоро домой поедет. Взглянуть бы на него…
– Он тут не выходит, – Николай Яковлевич снова поднял вверх палец. Значит, был уверен. – Есть выход во внутренние дворик. Он оттуда уезжает.
Мы ещё побегали вдоль центрального фасада. Шумели попутно весело и долго. Но никто из дверей не вышел и нас даже не поругал. Вот этим Алма- Ата мне тоже очень понравилась. В Кустанае гнали бы уже в шею, сопровождая запрет веселиться возле обкома всякими нехорошими словами. Но тут столица. Культура. Цивилизация и доброе отношение к простым людям. С парапета прекрасно смотрелась громадина-статуя. Владимир Ильич бронзовый, повыше и посолиднее нашего кустанайского руку протягивал не как у нас – от обкома в сторону, а прямо на Центральный комитет. Вот, мол, где и творится под моим наблюдением неустанный труд по приближению коммунизма. Мы перебежали площадь, остановились шагах в десяти от монумента, поздоровались с девочкой и мальчиком в белых рубашечках с красиво повязанными алыми пионерскими галстуками. Ребята держали руки над головой, торжественно салютуя и вождю пролетариата, и, наверное, всему дому, где билось за приближение светлого будущего правительство и боролся за то же самое Центральный комитет партии.
– Тяжело им стоять не шевелясь, да с поднятой рукой, – задумчиво произнес тренер. – Но это их пионерский почетный караул. Обученный, как солдаты возле мавзолея московского.
Ленина мы разглядывали недолго. У самих на главной площади стоит такой же. Только ростом поменьше. Потому, что Кустанай – не столица. Значит не положено над ней возвышаться ни в чём. А вот вдоль двух длинных широких и ярких клумб, на которых росли до самой следующей улицы через весь большой сквер потрясающей красоты розы, ходили мы как завороженные с полчаса. Розы росли разных цветов и сортов, каких мы и не видели сроду. Запах нежных и тонких ароматов стелился низко над дорожками по обе стороны клумб и проникал в каждого из нас вместе с дыханием и даже через поры кожи. Это были лучшие полчаса лично в мой жизни за последние пару лет. Я бы сидел рядом с клумбами, источающими ароматы, в которых поместились все прекрасные земные чувства: любовь, нежность и одновременно сила и здоровье духа. Но надо было уходить. Сумерки медленно, но уверенно сползали, похоже, с гор и обволакивали всё вокруг дрожащим фиолетовым маревом, исходившим от потемневших деревьев, медленного заката, который перекрасил небо из голубого в тёмно-синий, от включившихся люминесцентных фонарей, висевших на десятках столбов.
Мы, еле шевеля ногами, поднялись на два квартала вверх и направо. Вернулись в гостиницу, поужинали в кафе на первом этаже и разбежались по своим номерам. Я лег на кровать в одежде прямо на покрывало. Достал из -под кровати сумку, вынул и аккуратно сложил наспех затолканные свои вещи. И сразу обнаружил, что нет шиповок, завёрнутых в красные атласные спортивные трусы с полосками. Забыл на стадионе. Точно. Под скамейкой.
Я побежал в номер к тренеру и всё это рассказал.
– Утром вставай пораньше и шлепай на стадион. Там они и лежат. Кому они нужны? У всех свои есть, – Николай Яковлевич тоже лежал на кровати, не раздевшись. Он сладко потянулся после хорошего ужина и зевнул. – Давай, Станислав, иди. Мы завтра с утра в ЦУМ пойдем. До обеда. В обед сюда вернёмся. Увидимся. А ты сам погуляй. Шиповки нельзя тут оставлять. Дорогая вещь для нашего брата многоборца, да?
Я попрощался с ним, добрался до своего номера, где уже дрых по полной спринтер Володя Куваев. Разделся, лёг, успел подумать о том, что одному мне завтра будет куда интереснее и свободней, чем в дружной, но шебутной нашей компании. И уснул. В надежде не только на интересные сны, но и на такую же завтрашнюю явь.
Глава тридцать шестая
Ни одно утро никогда не бывает похожим на вчерашнее. Вчера я открыл глаза и за ноль целых три десятых секунды взмыл с гостиничной кровати, а секунд через пять вроде бы уже чистил зубы. Спешил потому что. Бегом надо было нестись на стадион, разминаться и ждать начала соревнований на ходу. С пробежками, прыжками на месте, растяжками и имитацией метания копья.
А сегодня глаза забастовали и не подчинялись требованию утра. Не открывались добровольно. Погуляли мы вчера интенсивно. К вечеру ноги стонали от жалости к себе и нецензурно разговаривали с их владельцами, которых после изматывающих соревнований понесло пешком в дальние по кустанайским меркам края. У нас дома мы бы, пройдя столько, обошли вокруг города. А в Алма-Ате освоили только, может, десятую часть того, что надо было обязательно увидеть в столице. Спал я как расстрелянный врагами, но они меня не добили, видно. Потому как нечеловеческая сила чья-то разлепила мне глаза и стукнула по голове, отчего включился мозг, который напомнил мне, что проснулся я в Алма-Ате. То есть только последний придурок может и дальше дрыхнуть, упуская все возможности прочувствовать себя хоть и временным, но жителем юга. Такого свинства я не имел права себе позволить. Тем более, что надо было забрать на стадионе забытые под трибунной скамейкой шиповки, завёрнутые в атласные трусы с полосками. Балконную дверь на ночь не закрывали, а потому утро вплыло в нашу маленькую комнату шуршанием шин двух поливальных автомобилей, которые разбрасывали свежесть воды и на асфальт, и в воздух. И с нашего второго этажа то слетала вниз, то подпрыгивала до крыши гостиницы не такая уж и маленькая радуга. Она поднимала настроение ровно до того состояния, которое радужным и зовётся. Сквозь шум высоко и далеко летящих под давлением струй пробивалось громкое пение неведомых птиц, пережидающих искусственный дождик на высоких деревьях и родное чириканье смелых воробьёв. Они продолжали летать и мимо нашего окна и купались в лужицах возле бордюров. На гигиеническую воробьиную процедуру я глядел через ветви тополей с балкона, отжимаясь от перил, разминая суставы, уставшие за день вчерашний. Не знаю как в другие годы было, но в июле шестьдесят третьего даже одного видимого в просветах ветвей кусочка асфальта, яркого угла розового дома напротив и нежно- голубого неба хватало, чтобы мысленно дорисовать в голове всю целиком прелесть просыпающегося огромного южного города.
Я нацепил трико, легкую майку на лямках, кеды и выбежал на улицу. Вся команда, кроме меня, собиралась сегодня потратить деньги родителей в ЦУМе, а потому и не просыпалась рано. Огромный магазин открывался в десять, но ломать ноги, чтобы успеть именно к открытию, никто и не думал. Это мне одному надо было прибежать к той скамейке на стадионе побыстрее, пока уборщики стадионные не унесут шиповки в какой-нибудь кабинет или зал, где взять их будет сложнее.
Я повернул за угол на проспект Коммунистический и автоматически перешел на солнечную сторону. И вот когда перешел, так сразу и попал под гипноз шепота воды в арыке, бликов от яблок, висящих так низко над тротуаром, что меня мгновенно одолела глупая для южных людей мысль: «чего ж их до сих пор не съел никто? Яблоки прямо по головам стучат людям, не слишком маленьким. Ешь хоть всю дорогу от вокзала до улицы Абая. Если влезет».
А яблоки переливались на солнце самые разные. Названий их, естественно, я знать не мог. У нас в кустанайском саду росли «лимонки» разносортные и ранет поздний. А тут играли под лучами своими красными в полосочку боками даже на вид сочные яблоки. И совсем маленькие, просто игрушечные яблочки, размером с вишню. Их было так много на одной ветке и прижимались они друг к дружке плотно, создавая гроздья, похожие на виноградные. А потом мне прилетела в голову правильная мысль. Алма-атинцы яблоками просто объелись, поскольку они растут везде. Ну, может, только на самом асфальте, на дорогах не растут, чтобы движению транспорта не мешать.
Я огляделся. Вокруг – полное безлюдие. В половине восьмого ещё не ожила даже эта центральная улица. Никого не было кроме катящей вдалеке коляску детскую молодой мамы. И потому меня ничто удержать не могло. Я подпрыгнул повыше и аккуратно сдернул большое яблоко. Полностью красное с золотистыми прожилками. Мне было стыдно и боязно. А вдруг за кустами бирючины сидят дежурные всенощно милиционеры и отлавливают расхитителей городских, а, значит, государственных фруктов. Но только утренняя тишь шла рядом со мной, ничего не видели ослепленные ещё красноватыми солнечными всплесками окна домов и мужики в синих сатиновых халатах, сметавшие большими желтыми мётлами листья с тротуаров, смотрели только вниз, чтобы не оставить ни одного листочка. То есть яблоко я украл у столицы хоть и с боязнью, но безнаказанно. Сначала я вытер его об майку, но умная голова решила, что для придорожного яблока этого мало. Тогда я сел на корточки возле арыка и искупал фрукт в прозрачной быстрой воде, спешившей сбежать с гор, чтобы с утра на целый день одарить город свежестью и успокаивающим нервы плеском маленьких, почти незаметных волн.
Удивительно, но от арыка почему-то тоже пахло яблоками. То ли пропитывалась вода запахом, падающим в неё с нижних веток, а, может, одинокие, сорвавшиеся нечаянно с яблонь в арык зрелые плоды отдавали чистой воде свой чистый аромат, настоянный на тепле южных ночей и ласках южного солнца. Яблоки плыли по течению вращаясь, на секунду утопая и выныривая, и вся эта картина в рамке из низких голубых и красных цветов по обе стороны арыка напоминала мне почему-то сказку о молодильных яблочках, которые сами плывут к тем, кто уже постарел или, наоборот, ко всем, кто желает всегда быть молодым. Но на саму улицу молодильные яблоки точно влияли. Она выглядела новенькой, гладкой, аккуратной и юной, будто смастерили её вместе с домами, деревьями, арыками и цветами всего пару часов назад.
– Ну, правильно! – дошло до меня. – Это ж центральный проспект! По нему, видать, сам Кунаев на работу ездит. Попробуй этот проспект не вылизать до последней соринки – быстренько переведут тебя из председателей горисполкома в дворники. Сатиновый халат дадут и две метлы. Одну, как положено, запасную.
Я дошел до первого угла, аккуратненько метнул огрызок яблока в красивую, со всякими фигурными выкрутасами, гипсовую, по-моему, урну. Урны эти стояли на всех углах и посредине каждого квартала. А вчера я заметил, что больше всего этих почти художественных произведений зодчества малых форм было расставлено в парке и скверах. Видимо, именно в результате отдыха народ расслаблялся и готов был пульнуть окурок или фантик от конфетки куда душа намекнёт. Хоть прямо под ноги гуляющим, что могло напрочь угрохать их прогулочное настроение. Но население всё складывало в урны с таким желанием, будто этот акт милосердия к городской природе обязательно им зачтется при далёком, но обязательном распределении в рай или в ад. А ещё у этих урн имелись сбоку красивые ручки из той же лепнины. Они спускались сверху почти до низу. И наблюдательные уборщики, которых я только за три свободных дня насчитал в разных местах примерно около тридцати, перетаскивали урны за эти ручки туда, где народ был наиболее расположен сбросить из рук что-нибудь лишнее.
Кстати, мне, провинциалу, тогда вообще показалось, что в нашей замечательной столице всего было наставлено, развешено и разложено с огромным перебором. В здании самой гостиницы сделали неглубокие овальные ниши, а в них поместили аж шесть небольших красивых гипсовых скульптур тружеников разных рабоче-крестьянских профессий. Всех не запомнил. Жаль. Но с улицы здание, и без того красивое, с этими вставками смотрелось очень богато. Возможно, не беднее, чем где-нибудь в Париже.
Возле гостиницы «Иссык» нашей сидел на специальном стульчике перед своим пультом управления щётками чистильщик с усами и в большой кепке. Возможно, грузин. За два метра от него стоял автомат с газводой, ещё метров через пять лоток на колёсах, из которого симпатичная девушка продавала сортов шесть-семь мороженого. На углу высилась монументальная синяя будка с телефоном-автоматом, а повернешь за угол, мимо художественной урны, кстати, – тут тебе другой серебристый передвижной лоток. На нём три ёмких стеклянных колбы с краниками. В самой широкой – молоко. В тех, что поуже – два разных сиропа. Это установка для изготовления потрясающего по вкусу и пользе молочного коктейля. Мимо этого лотка пройти, не пропустив пару стаканчиков, не мог из наших никто. Да, наверное, и алма-атинцы не могли. Иначе, чего бы молочные коктейли продавали через квартал на разных сторонах через дорогу? По пути вверх к улице, а, может, к проспекту Абая, мне надо было пройти четыре квартала. Вот на этом отрезке я не смог без остановки проскочить мимо восьми автоматов с газировкой, четырёх тёток, наливавших газводу из колб и сифонов вручную, промелькнул мимо трёх чистильщиков обуви, пяти телефонных будок, шести лотков с мороженым и четырёх с пирожками и беляшами. Через каждые два квартала на тонких столбах, покрашенных белой краской, висели громкоговорители, выплёскивающие в природное благоухание тихую лирическую музыку, а круглых тёмно-серых часов диаметром в полметра, висевших на серых столбах возле перекрестков, по дороге к стадиону начитал пять штук. Газетных киосков попутно попалось шесть. Возле них ранним утром, когда ещё не размыкают веки нормальные люди, кучковались небольшими очередями остронуждающиеся в новостях граждане средних лет и пожилые. Брали они по три-четыре газеты и одну из них обязательно читали на ходу. И это был один из самых ярких признаков того, что ты не в совхозе имени Будённого сейчас, а в центре культуры республиканского значения, в столице! Интересно и то, что газеты можно было вообще не покупать. Потому что вдоль тротуаров были вбиты в землю через каждые три квартала длинные стенды со стеклянными дверцами, за которыми уже висели самые свежие номера «Правды», «Известий», «Труда», «Гудка» и «Советской культуры».
Ещё на тротуарах Коммунистического проспекта и улицы (или тоже проспекта – не помню) Абая было много красивых зеленых парковых скамеек со спинками, изогнутыми под лиру для удобства граждан, решивших передохнуть в пути. Не помню сколько точно, но по дороге к стадиону, а это примерно три километра от гостиницы, мне регулярно встречались водонапорные колонки для тех, кто жил в своих одноэтажных домиках. И опять-таки фигурные круглые чаши, в середине которых из трубочки изливалась питьевая вода. Чашу она не наполняла, а проваливалась в два отверстия на дне, через которые снова вливалась в трубу и поднималась мелким фонтанчиком над чашей. Хочешь пей, хочешь – умой лицо, вспотевшее от ходьбы на подъём или от спешки на работу. Попадалось ещё довольно много мелочей, которые делали огромный по меркам того времени город, (всё-таки почти четыреста тысяч жителей ), уютным и комфортным для спокойного, достойного житья-бытья. Это и маленькие полуподвальные пивнушки, рюмочные и закусочные, где или кофе да какао выпьешь под пухлую французскую булочку, или солянку съешь, чего для сытости на весь день хватит.
Это и аккуратные остановки для автобусов и троллейбусов, огороженные стеной от ветерка, и легкой крышей от солнца. Со скамейками внутри и расписанием движения транспорта на стене. Ну и, конечно, броская достопримечательность той давней Алма-Аты – регулировщики движения на перекрёстках даже небольших улиц. Машин было немного, даже мало для гиганта-города и светофоры ещё не вошли в быт городской. А регулировщики всё равно стояли в центре перекрестков и жезлом своим приглашали пешеходов без боязни пересекать улицу, а водителей придерживали. Пока самый замедленный ходок не пересекал линию с дороги на тротуар. Это для меня было диковинкой чудной. У нас в Кустанае хаотичное перемещение машин и людей регулировалось только сноровкой пеших и реакцией шоферов.
Ну, и, конечно, не в избытке, а просто в огромном количестве росли всевозможные цветы повсюду, где только вообще можно было разместить клумбу. В цветах я тогда не понимал вообще ничего. Поэтому вспоминаю только розы, бархатцы, канны и гладиолусы. А сколько ещё других было! Нигде и никогда ни в каком возрасте ничего подобного я больше не видел. А кроме цветов – шикарные пирамидальные тополя да удивительные деревья, покрытые желто-розовыми гроздьями мелких, почти прозрачных, похожих на гусиный пух цветочков. Их называли здесь воздушной сиренью. Да! Ещё повсюду росли белые акации. И вдобавок сирень красовалась на каждом шагу почти, хотя, к моему сожалению, давно отцвела. Я бы лично назвал Алма-Ату так: – «Город Яблок и Сирени». Её было так много, что весной народ, как мне кажется, не ходил, не ездил, а как дух витал в сиреневом благоухании, обнявшим весь город. Я маленьким ещё был на пионерских соревнованиях здесь в начале мая и бабушке потом рассказывал, что в Алма- Ате такой же вкусный и сладкий сиреневый воздух, какой, наверное, бывает только в раю. Чем, конечно, очень бабушку веселил. Она в Бога уже лет тридцать не верила.
Да. Продолжу. Ещё росли повсюду карагачи, ясени и клёны, яблони, боярышник и шелковница. А к ним вдобавок каштаны и ели зелёные да голубые, дубы и сосны в скверах, парках и на некоторых улицах. И всё это благолепие дружно уживалось с журчанием ледяной горной воды в арыках, облагораживающих воздух, усиливающих ароматы трав, цветов и яблок на всех без исключения улицах. И спускающихся от предгорий до самого конца города, и перпендикулярных, непонятно какими силами несущих медленную прозрачную воду по ровной, без уклона, поверхности. Почти опровергая законы физики. Вот всё это создавало атмосферу не просто домашнюю, уютную, а натурально фантастическую. Или сказочную. Что, в принципе, почти одно и то же.
Я из любопытства заглянул в несколько дворов, где тоже всё было в деревьях, кустарниках и цветах. А между ними обязательно стояли деревянные беседки рядом с песочницами и детскими качелями. В беседках шумно отдыхали молодые ребята, а старики дышали нежным воздухом на лавочках возле деревьев и подъездов.
В этом милом сердцу городе, где ты оказался случайно, проездом, считай, душа твоя всё равно начинала сразу же упорно уговаривать тебя остаться тут навсегда. Нет. Она тебя даже не уговаривала, а умоляла! Так хорошо было душе в городе яблок, буйной зелени и голубого неба, бегущей с гор кристальной воды по арыкам и узким быстрым речкам. В этом добром городе с ласковым солнцем, улыбчивыми людьми и невероятными по грандиозному величию и ослепительной красоте горами.
Вот только сейчас сообразил я, что романтическими своими описаниями уклонился от мысли, которая повлекла меня не прямо по проспекту Коммунистическому, а заставила свернуть налево при первой возможности. Я ведь уверенно решил, что Коммунистический проспект вылизывают потому, что улица это главная и по ней на работу и обратно ездит самый главный человек республики – товарищ Кунаев. Который так накажет за неряшливость столицы уважаемой в СССР республики, что жить не захочешь потом. И пошел я мимо лотков, автоматов с любимой газировкой, клумб и фонтанчиков для питья, вдоль арыка, пахнущего, наверное, ветрами высоких гор, на соседнюю улицу. Сейчас она носит имя Панфилова, а как называлась в шестьдесят третьем – не помню. Она была поменьше проспекта, дорога асфальтовая лежала на ней узкая, а тротуары тоже не выделялись шириной. Идущие навстречу вполне могли задеть друг друга плечами. Рядовая, короче, была эта улица Панфилова. Но вдоль неё тянулись по бокам асфальта разноцветные цветочные клумбы, кудрявились белые акации и сияли отполированными солнцем красными и зелёными боками яблоки, свисая над тротуарами. Она была едва ли не чище проспекта, с которого я припёрся. Но Кунаев по ней точно не ездил. Да на ней вообще никаких машин не было. Если не считать машинами многочисленные детские коляски, которыми виртуозно управлял мамы, приучающие малышей глядеть на бездонное сверкающее под низкими пока лучами голубое небо и дышать свежестью недавно политых цветов. Ну, постоял я на углу, поглазел издали на какие -то не очень высокие деревца возле небольшого деревянного дома, облепленные со всех сторон маленькими желтыми ягодами. Но подходить не стал. Ягод этих я все равно не знал, а рассказать он них было некому. Побежал дальше бегом. До следующей улицы. Мне уже стало просто любопытно – будет хоть одна улица нормальной, как во всех городах, куда меня заносила спортивная жизнь. Нормальная улица, как мне думалось, должна иметь хоть какие-то следы от перемещения по ней народа. Ну, кто-то же должен окурок выплюнуть под ноги, автобусный билет ненужный в сторонку швырнуть, спичку уронить или палочку от эскимо вместе с раскрашенной обёрткой из фольги! Люди ведь такие же, как и везде. И ничто человеческое им не чуждо. По крайней мере, не нести же во рту плевок за тридцать метров до урны высокохудожественной, а незаметно освободиться от него на ходу!