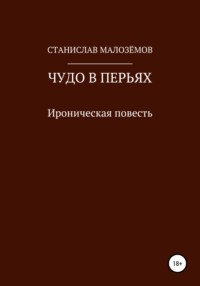Я твой день в октябре
Редакция «Нивы» прилепилась к огромному зданию красной кирпичной трехглавой церкви прямо в центре большого села. Лёха выпрыгнул из автобуса прямо рядом с церковной оградой, поднял голову, чтобы в который раз порадоваться красавцам куполам, сделанным из обвивающих купол винтом золотистых и голубых эмалевых пластин, над которыми громоздились несоразмерные куполам огромные сверкающие кресты. Володя сидел за столом и говорил по телефону с каким-то совхозом. Уточнял то ли важные цифры, а может имена героев очередной статьи. Руку он подал, не прерывая работы по телефону.
Лёха постоял возле стола, потом вышел на крыльцо, сел на деревянную ступеньку и закурил. Минут через десять вышел и Кирсанов.
– Когда дембельнулся-то? – Он ещё раз пожал Лёхе руку и сел рядом.
– Домой приехал вчера, – Лёха с натугой улыбнулся. – Друзей вот своих хороших обхожу-объезжаю. Соскучился.
– Да и я тоже, – Володя Кирсанов обнял Лёху за плечо. – Давай я тебе в честь дембеля подарю книжку свою. Две недели назад вышла. Да в нашей типографии и выпустили. Помучились, но неплохо сшили. Называется она
«Уральские сказания». Я тут человек пятьдесят стариков опросил о своём крае. У нас, блин, столько тайн всяких в лесах, столько явлений загадочных, даже сверхъестественных. Классно вышло!
Лёха поднялся и встал напротив.
– Ты сиди, не вставай. Книгу я возьму. Дорогой подарок. Но не сейчас. Сегодня подари мне в честь возвращения на «гражданку» ручку. Ну, помнишь, ты на ВДНХ купил перламутровую с паркеровским пером. Я давно тебе завидовал. Вот бы мне, думал, такую. А тут и повод подарить её самый клёвый. Друг из армии пришел. Отслужил Родине. Я же друг тебе. Вова?
– Ну, нашел о чем спрашивать! – напряженно сказал Володя. – Друг. Конечно. Только вот ручку эту я жене подарил на восьмое марта.
– Моей? – Лёха ухмыльнулся и отошел на шаг.
– Почему? Своей, – Кирсанов неожиданно скис и отвернулся.
– Не, Вова, ты, наверное, был пьяный в праздник и перепутал. Вместо своей Люды подарил моей Наде.
Кирсанов поднял голову, но глаз поднять не смог.
– А она…– Лёха сделал паузу. – А она ей разонравилась. Отвези, говорит, Володе эту ручку. Больно уж она тяжелая для слабой женской руки. И пусть он мне презентует на следующий год золотую лёгонькую цепочку.
Кирсанов поднялся.
– Что? – невпопад спросил он, бледнея.
Лёха вынул из кармана ручку, взял Володину руку и вложил это перламутровое чудо ему в ладонь лаковым пятном вверх.
– Забери, – сказал Алексей Малович. – Я её вчера под нашей кроватью нашел. Возле ножки. Надя сама уборку не делает, а уборщица только завтра придет. Вот бы и зажучила тётка неизвестная твою потерю. Ни тебе – ни жене моей. А так – вот она. Скажи дяде спасибо. Дня два назад был у Надежды?
Володя сошел с крыльца и двинулся куда-то вбок. За угол.
– Давай лучше на озеро сходим. Давай, – Лёха догнал его и взял за рукав. – Пошли.
И они медленно двинулись в лес. К озеру, где любили отдыхать.
– Служилось-то как? – Кирсанову Володе надо было что-то говорить. Без звука процессия гляделась откровенно траурно.
– Нормально служилось, – Лёха шел чуть позади и жевал травинку. В самом начале поля сорвал. – Хотели Героя Советского Союза присвоить. Я командиру части добровольно паркет натёр в кабинете. Но отказался я. Какой тут героизм? Каждый бы так поступил на моём месте.
– Ну, скажешь же… – задумчиво сказал Володя. – Сам услужить пожелал. Нелепица. Так я тебе и поверил.
– Ну, тебе тут, как я понял, тоже служилось не хреново, – Спокойно и медленно произнёс Алексей. – Надеже моей не успел намекнуть, чтобы она папу уболтала в нашу газету тебя перевести? Или успел? Ты ж у нас без пользы для себя шага не сделаешь.
– Никогда ты мне такого не говорил, – тихо удивился Кирсанов.
– Ну, так и ты никогда такого не делал, – ещё тише сказал Лёха. – Всё когда-то происходит однажды. Потом дважды, трижды. И попёрло-понесло. И тормоза отказали.
Прошли через лесок берёзовый, пахнущий немного дёгтем и слегка смолой, ещё не обсохшей на недавно родившихся листочках. Над низкими весенними цветами тарахтели как мотороллеры толстые шмели и издавали звуки скрипичного альта пчёлы разных пород. Желтые и тёмные как навозные мухи. Из-за стволов выпрыгнуло в глаза озеро, над которым орали летающие как снаряды утки, то ли смываясь от врагов – змей водяных, то ли тренируя тела перед весенним спариванием. Камыш не шумел и не гнулись деревья. Тишина воздуха, покой, который всегда живёт возле тихой воды, просили присесть в траву, вдыхать флюиды волшебной весны и думать о счастье.
– Приехали, – сказал Лёха. – Повернись. Как ты сам догадываешься – сказать я тебе ничего не хочу. Иначе бы уже давно сказал.
Он подошел к Володе Кирсанову вплотную и без размаха коротко, быстро и резко метнул кулак в его солнечное сплетение. Вова охнул и согнулся. Алексей сверху так же резко воткнул ребро ладони ему в шею. Кирсанов издал захлёбывающийся звук и тяжело упал в траву перед самым берегом.
Лёха подождал когда Володя смог, наконец вдохнуть в себя воздух и протяжно, как астматик, закашлялся, не открывая глаз.
– Извини, Вова, – Лёха пару раз легонько шлёпнул его по бледным щекам. – Всё по совести. « Jedem das Seine. Каждому своё» – как было написано на воротах Бухенвальда.
Он ещё раз наклонился к Кирсанову, убедился, что дыхание потихоньку возвращается и пошел через лес к автобусной остановке возле церкви. На душе было пакостно и мерзко. Хоровое пение майских птиц, в такт руладам своим раскачивающихся на молодых ветках берёз, не будило в душе тёплых чувств и упругость веток нижних, которые сгибались под его плечами и со свистом возвращались на место – не мешали его переживаниям.
– Блин, наверное, не надо было… – Лёха плюнул от досады под ноги. – Не надо было, твою мать!
Ни зла он не чувствовал, ни удовлетворения. Ничего не чувствовал. Ни приятного опьянения от справедливого отмщения не было. Ни зла на бывшего друга, который и не хотел, конечно, а семейную жизнь Лёхину подкосил как «литовкой» при хорошем замахе с плеча. Но, что больше всего поразило Алексея – не имелось в душе даже намёка на обиду к Надежде. Вместо неё почему-то гуляла в голове огромная степная пустота. В которой не на что было опереться и не за что ухватиться. И, что странно, вот это наполненное пустотой безразличие сразу стало для него спасательным кругом, который не давал ему погрузиться в море печали и разочарования. Жизнь шла дальше. Не так и не туда, куда хотелось ещё позавчера в поезде. Но щла туда, видимо, куда было легче. То есть под горку.
– Ну, а куда ещё? – мрачно сказал вслух Лёха. – «The Love Story» как памятник пусть вверху стоит, а мне, похоже, как колобку придется вниз скатываться. Чтобы и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя, Лиса…
В Зарайск он вернулся сразу после обеденного перерыва. От автостанции ближе всего было до редакции. Зашел сначала к отцу в отдел. Батя сидел в одиночестве. Правой рукой он быстро набрасывал шариковой ручкой на лист свои остроконечные буквы, странные, и на буквы не похожие. Хотя читались легко. Левая рука его автоматически трепала кудрявые волны на шевелюре. Помогала голове извергать мысли.
– Ты чего? – спросил батя, не отрываясь. – К главному пойдешь?
– Схожу. Отмечусь. Но мне ещё две недели отдыхать, – Лёха постоял у подоконника. Мимо окна бежали люди с сумками и сетками-«авоськами». Значит, к остановке уже подъезжал автобус «Военный городок-Центральный рынок».
– Дома хреновые дела? – не то спросил, не то утвердил отец. – Мать Надьке твоей звонила. Она плачет, но толком ничего не говорит.
– Тёща тоже плачет? – сострил Лёха.
– У мамы спроси. Мне твоя тёща – как собаке пятая нога.
– А Надьке чего бы плакать? Всё прекрасно у неё. Скоро диссертацию защитит. Мы с ней вообще не ссорились даже вежливо и интеллигентно.
Лёха постучал пальцем по стеклу и пошел к редактору.
– О! – обрадовался Главный. – Вот тебе плуг. Земля пахнет. Пахать пора. Про службу забывай. Если не будет войны, а её не будет ещё долго, то и не фига армию долго в голове держать. Отслужил путём?
– Как и положено зарайскому гражданину. Не посрамил! – Лёха отдал честь при пустой голове. То есть без берета. – Но батя мне сказал, что вы распорядились, чтобы я пару недель погулял.
– Так гуляй! – Николай Сергеевич засмеялся. – Ходи не в ногу с населением и не ложись спать «по отбою». Жду через неделю и пять дней. Понедельник как раз будет.
Лёха пожал Главному руку и пошел в фотолабораторию к Моргулю Михаилу Абрамовичу. Обнялись.
– Ой, Алёха, мне с тебя смешно! – покрутил его по оси дядя Миша. – Я тебя уважаю, хотя уже забыл за что! Ну, ты посмотри на этого патриота за мой счёт! Это ж натуральный маршал без лампас и эполет. Хорош! Такого бы зараз купили на Привозе за цену самой дорогой рыбы «бычок».
– А Носов Витька где? – освободился Алексей. – Бухает, небось, в кафушке?
– Алеша, ша! Возьми на полтона ниже и брось арапа запускать! Он строгает лаве на халтуре. В детском садике снимает этих будущих негодяев и поцев. Бухает!!! Шо ты такое говоришь?! Иди купи селедку и морочь ей голову!! И не тошни мне на нервы.
– Ладно, на улице подожду, – Лёха вышел, закурил и сел на скамейку возле входа. По центральной городской улице проистекало неторопливое, как вода в Тоболе, движение людей малочисленных, переполненных автобусов и ничейных собак, переходящих от одного продуктового магазина к другому. По пути они останавливались возле тёток с большими ящиками на ремне, в которых лежали пирожки с ливером. Тётки доставали из внутренних карманов пиджаков под белым халатом копейки, кидали свои деньги в ридикюль с деньгами наторгованными, государственными, после чего давали каждой из пяти собак по большому пирожку. Собаки ели, не спеша, поскольку их жизнь голодной не смогла бы назвать даже самая последняя сволочь.
Тут и Нос появился, увешанный с трёх сторон кофрами, фотоэкспонометрами, дальномерами и штативом в чехле. Он попытался обнять Лёху, но обоим этот шаг сразу показался травматичным, и Нос пообещал сбросить всё барахло в лаборатории, и вернуться немедля. И ведь вернулся, не смог запрячь его Моргуль в любое нелюбимое самим дядей Мишей дело. Посидели, поболтали. Нос про армию спрашивал много, хотя стать солдатом ему не светило после того, как ему вырезали после аварии в командировке одну почку. Лёха его про зарайские новости поспрашивал. Лучшей новостью оказалось честное признание Витькино, что он после Лёхиного отъезда женился через месяц на Лильке со швейной фабрики «Большевичка». Он с ней познакомился там ещё три года назад. Но тогда ни денег на свадьбу не было, ни места, где можно было жить. Ничьи родители к себе их не пустили. Хотя, вроде бы вполне нормальные были люди. Просто Лилька не нравилась родителям Носа, а сам Витька – Лилькиным. Ну, бывает так. Ну, потом Нос ещё кучу новостей вывалил. Но стоящих особого внимания не оказалось среди них.
– Слушай, Нос, – Лёха положил ему руку на плечо. – Пойдем в «Колос». Вмазать хочу.
Витька ошалел и уставился на Лёху как на бабуина, которого незаметно подменили и посадили рядом вместо Маловича.
– Ты чего? – задал умный вопрос Нос.
– Да ничего,– Лёха улыбнулся. – Новую жизнь начинаю. Веселую и распутную.
– А есть причины? – Витка пристально посмотрел ему в глаза. – Ну, вижу. Есть. А я пробовал тоже по причине. Пару лет назад. Когда Лариска меня дурканула, за фраера одного, заведующего магазином выскочила. Ты знаешь. Кончилось неважно. Повеселился, конечно. Сейчас почка одна. Юрка, сын, родился с дефектом черепа и пальцев на ногах. Ходить ему рано ещё. А будет-не будет ходить – не ясно даже врачам. Говорят – бухаловка моя наследила. Так я сейчас мало пью. А ты решил уже? Точно?
– Так идём или как? – сказал Лёха.
– Да пошли. Помалеху вмажем. Вздрогнем да по домам, – Нос поднялся и пошел.
– Только у меня денег нет, – Лёха догнал его и вывернул карманы. Я второй день как дембельнулся. Не работаю пока.
– Ну, ты, мля, испортился в армии, – заржал Нос. – Во, глянь.
Он вывернул правый карман, который до отказа был забит трояками, пятёрками и десятками.
– Артель – эффектный труд, – засмеялся потише Витька. – Папы-мамы на детишек не жалеют бумажек.
Через пятнадцать минут на столе в «Колосе» уже стояла бутылка портвейна номер двенадцать и две тарелки с винегретом.
– С возвращением, – поднял стакан Нос. Чокнулись.
Лёха «махнул» двести пятьдесят разом. В один приём, в три глотка. И ничего не почувствовал кроме запаха. Который попадал в нюх тысячу раз уже, потому как общался Алексей со многими, а они пили в основном этот портвейн, де ещё «три семерки» Посидели, разговорились. И вот во время непринуждённого трёпа Лёха понял, что ничего он не понял из довольно длинного разговора. В голове было вращение всего, что она внутри имеет, живот разогрелся так – хоть яичницу на нём жарь, мышцы расслабились до состояния домашнего холодца, а ног он вообще не чувствовал. Постучал по коленке кулаком и успокоился. Нога отозвалась лёгкой болью.
– Ещё? – поднялся Нос. – Заполируем принятое? Чтобы гладко было в кишках.
– Не. Хорош пока. Я ж первый раз. Размазало с непривыку. Спать хочу. А негде. – Лёха попытался снять с губы хлебную крошку, но промахнулся. Зацепил пальцем нос. – Домой не пойду. Жену не хочу видеть. К матери тоже не пойду. Расстроится. Ей одного бати хватает по части бухаловки. «Кобылки» есть старые мои. Штук пять-шесть, к которым бы я не прочь загульнуть. Но там ведь надо это самое… А желания никакого. Тошно мне, Нос. Я кента утром побил. Одного из лучших. Вроде вас. Но вы-то с Жердём братья мне. А Вовка – просто кент. Побил за дело. Но противно на душе, один хрен. Пойду я переночую на вокзале. – Лёха поднялся и его плавно, но крепко мотнуло вправо и назад. Он взялся рукой за стену и удивился.
– Оп, ты, чтоб ты! – криво улыбнулся Малович Алексей. – Ты не герой-десантник, ты, Ляксей, дерьмо на палке от мороженого.
– Спать – ко мне, – Нос оторвал его от стены, взял под руку и аккуратно, чтобы не повалить столики, вывел его на улицу. – Лилька слова не скажет. Она с уважением к тебе. Поспи. Потом вечерком поправимся. У меня дома маленько водочки есть. И ночуй потом у меня. А завтра на трезвяк подумаем, куда, что и как. Лады?
– Лады, – Лёху мутило. – Только водку я не буду. Возьми портвешка, что ли того же.
– Аленка! – крикнул Нос в открытую дверь кафе. – Вынеси флакон двенадцатого. Деньги вот они.
Через пять минут они уже брели через дворы к Витькиному дому, бормоча друг другу хорошие, добрые, дружеские слова. А через час спал Лёха мёртвым неправедным сном. В котором не было снов. А значит, не было ничего. Пустота и сон разума. Который обязательно родит чудовищ. Чего Лёха с непривычки, да в прострации плавая, еще и представить себе был не в состоянии. Он не знал ещё, да и подсказать ему, отрубленному, никто бы и не смог. Что началась другая, уже четвертая его жизнь. Самая, пожалуй, глупая и злая.
Разбудил его истошный собачий лай. Нос жил в отдельном доме отцовском. Который завещал его Витьке. После смерти матери отец стал жутко пить, прихватил сразу несколько болезней основательных, сходил к нотариусу и завещал сыну дом. А через полгода помер от цирроза печени. Двор был небольшой у дома, но с яблонями, вишней и землёй под огород, на которой Лилька самозабвенно выращивала всё, что желала. От капусты и помидоров до горькой черной редьки. Собака охраняла дом огромная. Волкодав. Звали пса Демон. Вот он сейчас и встречал во весь голос незнакомого ему гостя. Через пять минут зашел свежий, будто и не пил вчера, Нос и сказал Лёхе, что за ним заехал знакомый из Притобольского совхоза. Надо было поехать с ним и забрать баранью тушу свежую. Вернется он часа через полтора.
– Не, я ждать не буду. Пойду, – Лёха поднялся. Одеваться не надо было. Уснул он в спортивном костюме и даже одеялом его укрывать не стали. Лишнего не было, а будить пахнущего портвейном Лёху, чтобы вытащить из-под него толстое одеяло, не решились. Пусть спит. Ну, поднялся с горем пополам Алексей и сразу понял, что ходок из него сегодня получится плохой. Мутило, кружилась голова, болел затылок и во рту пересохло так, будто он без воды пешком дошел до середины пустыни Кызыл-Кумы. На ватных ногах, не прощаясь ни с кем, он вывалился во двор, погладил всегда любящего Лёху Демона и вышел за ворота. Он не видел, что жена Витькина стоит на крыльце и никак не может, глядя на него, стереть с лица смесь удивления с ужасом. Алексея она знала давно и ей в голову не могло прийти, что он когда-нибудь выпьет спиртное. Постоял Малович Алексей возле дороги, подышал усиленно свежим воздухом майским и не нашел лучшего места куда можно было пойти в таком отвратном виде, чем родимая редакция.
– Посижу у бати. Он пока один в отделе. Корреспонденты в командировках, воды попью побольше. Может, отпустит похмелье хотя бы к полудню.
Отец долго смотрел на Лёху, который открыл дверь и держался за ручку, не пытаясь войти. Лицо его имело серый оттенок, глаза – красный, а ноги полусогнуты в коленях. Устал пока дошел.
– Ты чего? – спросил батя безрадостно. – Пить, что ли, начал?
– Ну, – Алексей всё же протолкнул себя в дверь, закрыл её за собой и на вялых ногах добрёл до стула, взял графин со стола и выпил из горлышка почти литр. – Нервы лопнули. Вроде не с чего, а лопнули. По всему телу порвались.
– Ни с чего ничего и не бывает, – Николай Сергеевич подошел, поднял Лёхе подбородок и внимательно посмотрел ему в глаза. – Ты, что, целую бутылку портвейна засадил? Дома плохо у тебя?
– Чёрт его знает, – Алексей снова отпил из графина с поллитра. – Вроде нормально. Если не вдумываться – в глаза ничего нехорошего не бросается. Всё культурно, вежливо, ни слова громкого, ни интонаций обидных. Ну, короче – вполне счастливая, богом поцелованная семья. Все при деле, прекрасное дитё. Дом полный всего самого-самого. Полнее некуда… А вот дембельнулся я, приехал домой, а чувствую, что не домой вернулся. Вот как это, батя? Жена встретила так, будто я на пятнадцать минут за сигаретами в магазин выходил. Нет, мне не надо, чтобы она лила слёзы счастья и не выпускала сутки из страстных объятий. Но, блин…
– Я так догадываюсь, что гульнула она от тебя, – отец посмотрел мимо сына в окно. – И даже знаю с кем.
– Я тоже знаю. Поговорил уже с ним. Ездил вчера. А ты-то как догадался?
– Да это у него ума не хватило, – батя усмехнулся. – Позвонил мне, чтобы уточнить, когда ты приезжаешь. Ты Надежде не сказал, что ли?
– А на фига? – Лёха держался за больной затылок. – Я сам толком не знал.
– Вот, – отец прищурился. – Слушай. Он же мне в жизни не звонил никогда. Жена твоя примерно предполагала когда ты заявишься. А надо было точно знать. Она маме нашей звонила дня за четыре до приезда твоего. Но мама тоже понятия не имела. А им нужна была информация поточнее. Риск ведь был. Ну, он тогда ко мне. Не было у него больше варианта. Потому осмелел. Мол, хочу друга на вокзале встретить. Соскучился. А мне почему-то показалось, что вот эти два звонка маме и мне – связаны. Не знаю почему. Но так я подумал. Жене твоей-то он звонил раньше, чем нам. А она ничего тоже не знала.
– Ты прав, батя, – Алексей допил воду в графине. – Я его ручку с паркеровским пером знаю хорошо. Раньше видел. Она необычная. Перламутровая. И красная лаковая точка на колпачке. Так вот я когда приехал с вокзала и переодевался, ремень упал почти под кровать. Я его поднимал и увидел возле ножки эту штуковину перламутровую. Ну, короче, успели напоследок. Такая пена, батя, на пиве…
– Да пёс с ними, – сказал отец. – Год без мужика женщине молодой – пытка. Это у всех солдат – одна беда. Вопрос в другом. Тебе надо жить с ней дальше так, будто ты ничего об её загуле этом – ни сном, ни духом. И жить именно так как хочешь сам. Ты-то хочешь чего-нибудь? Знаешь, зачем жить? Только вот разводиться не надо. Как идёт оно всё, так и пусть идет. Жизнь совместная, но у каждого разная.
– А что, так можно прожить в согласии? – удивился Лёха.
– Да конечно. Только так и можно. Когда станет невозможно – судьба вас сама уберёт друг от друга. Тихо и незаметно. А пытать её начнёшь – лицо потеряешь и зло разбудишь в ней. Зло у самого доброго человека спит внутри до случая. А, как говорит наш еврей Моргуль, оно тебе надо? Спросят как жизнь, отвечай всем: «Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!»
Лёха тогда и сообразить не мог, как прав был отец. Похмелье скачками и поэтапно покидало организм. После каждого забега в туалет и освобождения от воды из двухлитрового графина становилось постепенно так, как было до портвейна. Ну, Алексей, конечно, для усиления эффекта подставлял в туалете голову под кран, который выгребал из-под земли почему-то почти ледяную воду. Так что к обеду впервые нажравшийся бормотухи Малович Алексей имел вполне сносный вид и довольно внятный разговор. Поэтому батя распорядился, что на обед они вместе идут домой. Мама сварила суп с клёцками и спекла в духовке пирог с картошкой, луком и чесноком.
– Алексей! – обрадовалась мама. – Как хорошо, что ты пришел. Соскучилась я по тебе просто безумно. Садись. Ешь и рассказывай.
– Давай, мам, я тебе много чего расскажу вечером. – Лёха стал есть наперегонки с отцом. – Я ночевать сегодня у вас буду. То есть, у себя дома. Напротив секретера моего, со своей любимой книжкой перед сном. И магнитофон же я перетащил обратно! Во! Послушаю от души.
– Так дом у тебя теперь там, где Надя и Злата, сын, – мама села напротив и грустно стала глядеть на то, как быстро Лёха уничтожает суп. – А что, дома не готовят, что ли? Ты вроде как дня три не ел. Что там у вас вообще? Ты и вчера там не ночевал. Сегодня вот тоже… Вы не поссорились? Надя звонила. Плачет. Говорит, что ты из дома ушел. Обиделся на неё.
– Ма, на неё обидеться невозможно. Потому как не на что. Она – идеал жены. Дочь родила – сравнить её не с кем. Чудо, а не девочка! А работает как! Все студенты на руках её носят! И ко мне она как относится!! Не каждому так везёт! За всё время ни разу не поссорились! Ни единого раза! Показатель любви?
– Показатель, – согласилась мама. – А зачем тогда из дома ушел? Ночуешь, где попало.
– Ну, дом родной родительский – это уже не где попало. А сегодня у Витьки Носа ночевал. Он тоже не ком с горы. Друг с пелёнок. А то, что ушел – это не её вина, а мой косяк. Я не сдержался. Не буду повествовать – почему. Но нахамил ей и тёще. Вот от стыда и ушел на пару дней. Стыдно им в глаза смотреть.
– Всё! – сказал батя и дотронулся до сына одним пальцем. – Тему поменяем? Давай, расскажи, что на службе делал. Это поинтереснее.
И Лёха долго, до самого позднего вечера изливал родителям память души о замечательном времени, длившемся всего год в сто тридцать седьмом гвардейском парашютно-десантном полку. Все слушали и ахали. Мама поярче и погромче, батя – сдержанно, но одобрительно. На работу он больше не пошел. Решил вечером дома дописать.
Часов в девять вечера позвонила Надя.
– Лёша у нас будет ночевать, – после пятнадцати минут беседы с ней о каких-то выкройках, которые Надя ей достала у студентки своей. – Успокойся. С ним всё в порядке. И простите его с мамой за его идиотское хамство. А завтра он сам извинится. И больше не посмеет.
Лёха одобрительно поднял вверх большой палец.
– Молодец, ма!!!
Дело было вечером. Делать было нечего. Лёха поиграл на баяне от души. Послушал «битлов» любимых на стареньком своём магнитофоне «AIDAS», cделал на холсте карандашный набросок пейзажа за окном. Через фонарь на столбе и угол дома выписал степь, незастроенную пока и украшенную вечерним маревом. Потом до двух ночи перечитывал любимую книгу Льва Успенского «Слово о словах».
После чего лег как бы спать, а на самом деле думать. Было о чём. И было зачем. Жизнь шла и всё произошедшее за последние пару лет надо было в ней рассортировать, а потом сложить правильно, аккуратно и бережно, как умные маленькие дети складывают пирамиду из кубиков. Вроде бы шаткое сооружение. Но подсказки взрослых помогают установить её так прочно, что ни вихри ей не страшны враждебные, ни столкновения случайные и нечаянные.
А перед тем как уснуть повторял Лёха внутренне фразу отца, которую надо было не просто запомнить, а носить всегда с собой как карту для ходьбы по местам незнакомым, переполненным препятствиями.
– Ты же знаешь – зачем жить? Так живи!
Вот, оказывается, как оно всё просто. Наверное, так живут самые счастливые.
Если, конечно, повезёт.
25.Глава двадцать пятая
Легко посоветовать: «Живи как хочется». И принять такое заманчивое предложение тоже нетрудно. В каждом нормальном человеке тонны накоплены нетронутой решительности, отчаянной смелости и готовности поменять судьбу лично, не дожидаясь вмешательства внеземных сил. Любой может жизнь свою либо с головы на ноги перевернуть, либо наоборот. Это уж к чему больше повлечет. Но, главное, повторяю, в каждом эта сила есть. Лежит она в дальнем закоулке души, потому, что на каждый день не требуется эта сила. Вынуть её из недр и спустить с цепи, на волю её вызволить надо только в крайнем случае. В тупике, стоя, уткнувшись лбом в во что-то невидимое, прозрачное, но непроходимое. Когда даже пуговица на рубашке, и та орёт во всё горло, что тебе Вася, Петя, Федя, Коля, Нина или Зина надо отклеить лоб от преграды, развернуться, но не туда бежать, где ты уже был и туда больше не хочешь, а куда ноги несут. Как говорят одесситы: «Вы будете долго смеяться, но я себе знаю, а вы думайте, как хотите!» В переводе на наш небогатый каламбурами словесной вязи язык это значит примерно следующее.