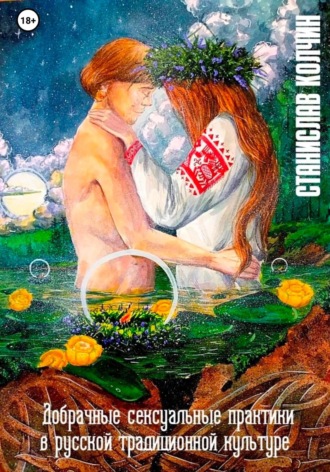
Добрачные сексуальные практики в русской традиционной культуре
Кроме того, в целом, по мнению Т. А. Агапкиной: «Посредством фольклорного, культового, эротизма как составной части ритуально-магической традиции в славянском народном календаре воплощается три основных значения.
Во-первых, фольклорная эротика есть проявление праздничной разнузданности, оргиастичности, характерной для наиболее мифологически насыщенных, переломных периодов календаря. Эротика в сезонном ритуале – своего рода апогей праздничного хаоса и вседозволенности, мены социальных и даже половозрастных ролей, физического и психологического освобождения и пр. Именно поэтому наибольшее число эротически окрашенных обычаев и фольклорных текстов, а также фаллических символов встречается среди переломных празднеств славянского календаря: на Святках, Масленице и в Иванов день.
Во-вторых, фольклорная эротика и в особенности ритуальная нагота (обнажение гениталий как производительных органов и частей тела человека) связана с тем, что принято называть «комплексом плодородия», аграрными культами и производительным началом. Согласно магической ассоциации, эротические проявления со стороны человека благотворно влияют на производительность земли и скота и потому расцениваются положительно и даже приветствуются как форма праздничного или ритуального поведения.
Наконец, в-третьих, фольклорная эротика обретает особый смысл в перспективе матримониальных отношений молодёжи фертильного возраста и потому широко «применяется» в предбрачных играх, любовной магии и гаданиях о замужестве.
Таким образом, оргиастичность, производительное начало и предбрачные игры – вот те три области, в которых фольклорная эротика в славянском календаре занимает безусловно сильные позиции. Понятно, однако, и то, что в каждом конкретном празднике и даже календарном цикле фольклорная эротика задействует лишь часть этих тем, «согласуя» свою семантику и символику с основными мифопоэтическими доминантами этого цикла».18
Можно сделать вывод, что Масленица, хотя и была преимущественно праздником женатой молодёжи, носила черты ритуального осуждения молодёжи брачного возраста, не вступившей в брак, но всё же служила и целям предбрачных игр для инициации холостых парней и девушек.
«В составе весенних праздников важнейшее место занимают формы знакомства и межполового общения молодёжи, среди которых можно выделить совместные (когда в игре или иной форме досуга участвовали в равной степени и парни, и девушки), взаимные и односторонние (в которых инициатива принадлежала лишь одной из сторон).
Подобные формы досуга не были, конечно, исключительной прерогативой пасхально-троицкого цикла: они практиковались в течение всего года, в том числе и на Масленицу (вспомним хотя бы совместное катание с гор с обязательными поцелуями), однако в период с Пасхи до Троицы или Петрова дня такие развлечения становились постоянными и захватывали не только воскресные дни, но фактически все свободное время молодёжи, были своего рода пиком предбрачных игр и увеселений».19
Купала
«Обряды Иванова дня были отголосками древнеславянского праздника в честь солнца. Об этом свидетельствует и само слово «Купала», которое происходит от глагола «купать», – в его основе лежит индоевропейский корень –kup – со значением «кипеть, вскипать, страстно желать»».20
Купала, или Ярилово празднество, пожалуй, считается наиболее разгульным и сексуальным праздником в славянской культуре. Славянский день влюблённых. Именно его церковь считала наиболее развратным и растлевающим нравы.
«Игумен Елеазарова монастыря Памфил в своём послании к князю Димитрию Ростовскому, наместнику псковскому (1505) так описывает любовный разгул Купальского праздника: «Еда бо приходит велий праздник день Рождества Предтечева, и тогда во святую ту нощь мало не весь град взмятется и взбесится, бубны и сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми сотонинскыми, плесканием и плясанием <…> женам же и девам плескание и плясание, и главам их накивание, устам их неприязнен клич и вопль, все – скверненыя песни, бесовская угодия свершахуся и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание; ту же есть мужем же и отроком великое прелщение и падение, но яко на женское и девическое шатание блудно и в зрение, такоже и женам мужатым беззаконное осквернение, тоже и девам растление».
Подобное же описание Купальского праздника находится, как мы видели выше, и в «Стоглаве». Несмотря на протест духовенства, до позднейшего времени на Яриловом празднестве допускались свободные объяснения в любви, поцелуи и объятия, и матери охотно посылали своих дочерей поневеститься на игрищах. В Витебской губернии накануне Иванова дня «молодые девушки надевают на голову вайник (головной убор замужних женщин)»; в других местах молодые люди обоего пола купаются в реках перед закатом солнца. Вечером раскладывают огонь на полях и на горах.
Девушки и мужчины, побравшись за руки, прыгают попарно чрез огонь. Если при скакании не разойдется пара, то это явный признак, что она соединится браком».21
Так что же служители церкви подразумевали под блудным шатанием, осквернением и растлением дев? Давайте попробуем разобраться подробнее. Для начала следует заметить, что для православной церкви «все удовольствия, развлечения, игры были делом дьявола, бесоугодием, языческой мерзостью. Народные песни, сказки, поговорки относились к той же категории, а сочинения, исполненные «небылиц и вымысла», сожигались на теле их авторов и распространителей. Игры, хороводы, качели предавались проклятию и преследовались властью».22
Таким образом, вполне возможно, что растление на этих праздниках было только с точки зрения православной церкви, так как любые игры и увеселения по её канонам считались греховными. Но присутствовал ли разврат с нашей, современной, точки зрения, ещё следует разобраться.
«В Малороссии накануне сего праздника молодые люди обоего пола купаются в реках до захождения солнца, потом в сумерки раскладывают огонь на выгонах, на полянах, в садах и попарно, держась рука об руку, перепрыгивают чрез огонь. Если во время перепрыгивания руки не разойдутся, это означает, что пара эта, то есть парень и девушка, совокупятся браком; подобно тому, как в Карпатах и Судетах молодёжь, препоясавшись цветными перевязями и надев на головы венки из цветов благовонных, составляют вокруг огня хороводы с песнями в честь Купалы. Иван Купало между простым народом в Ярославской, Тверской и Нижегородской губерниях называется Ярилою».23
«Празднуя Иванов день, парни и девушки объединялись в единую группу, вместе гуляли до самого утра, вместе купались в реках и озерах, что было не принято в другие дни, устраивали совместные трапезы на берегах рек, прыгали через костры. Взаимоотношения любовных пар были достаточно вольные: не возбранялись поцелуи, ласки, объятия, считавшиеся непозволительными в другие дни. Девушка на эту ночь могла «играть» не обязательно со своим постоянным «ухажёром», а выбрать себе в пару любого понравившегося ей парня, даже из чужого села. Почётник же не имел права её ревновать или сердиться из-за «измены». Традиционные развлечения молодёжи – хороводы, качели, пляски – сопровождались песнями с эротической направленностью».24
«В северо-восточных местах России праздновали вместо Купалы, Агриппину Купальницу. Пред собиранием хлеба приносили ей жертвы и того же времени начинали купаться в реках, потому она прозвана Купальницей. Молодые люди украшались венками, раскладывали ввечеру огонь, плясали и пели в честь купальницы». 25
Ещё в ночь на Купалу искали цветок папоротника, который, как известно, цвести не может.
««Невидимый цвет» добывается с папоротника, который расцветает в ночь на Иванов день. Берут с собой скатерть, приходят на то место, где растёт папоротник, и расстилают скатерть рядом с ним. Как только цветок папоротника распустится, надо в ту же минуту его сорвать. Держа при себе цветок папоротника, станешь так же невидим, как и в шапке-невидимке и можешь достать с ним клад».26
«До сих пор во всех славянских землях верят, что без огненного цвета папоротника ни за что нельзя добыть клада. Этот фантастический цветок – метафора молнии, что очевидно из придаваемых ему названий и соединяемых с ним поверий. У хорватов он прямо называется Перуновым цветом, у хорутан – suncec – солнечник, ибо, по их рассказам, он расцветает тогда, когда весеннее солнце победит чёрного волка (демона зимы), и хотя нечистые духи силятся не допустить его до расцвета, но усилия их постоянно бывают безуспешны. На Руси ему даётся название светицвет; народная же сказка упоминает о жар-цвете, который когда цветёт – то ночь бывает яснее дня и море колыхается. О папоротнике рассказывают, что цветовая почка его разрывается с треском и распускается золотым цветком или красным, кровавым пламенем, и притом столь ярким, что глаза не в состоянии выносить чудного блеска; показывается этот цветок в то же самое время, в которое и клады, выходя из земли, горят синими огоньками…
Другая ночь, в которую цветёт папоротник, бывает среди лета – на Ивану Купалу, когда Перун, по древнему представлению, выступал на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, отверзал скрытые в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями».27
«Нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный цветок; около папоротника в ночь, когда он должен цвести, лежат змеи и разные чудовища и жадно сторожат минуту его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим цветком, нечистая сила наводит непробудный сон или силится оковать его страхом; едва сорвёт он цветок, как вдруг земля заколеблется под его ногами, раздадутся удары грома, заблистает молния, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые хлопают по земле; человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом; перед ним явятся звероподобные чудища с высунутыми огненными языками, острые концы которых пронизывают до самого сердца. Пока не добудешь цвета папоротника – Боже избави выступать из круговой черты или оглядываться по сторонам: как повернёшь голову, так она и останется навеки! А выступишь из круга, черти разорвут на части. Сорвавши цветок, надо сжать его в руке крепко-накрепко и бежать домой без оглядки; если оглянешься – весь труд пропал: цветок исчезнет! По мнению других, не должно выходить из круга до самого утра, так как нечистые удаляются только с появлением солнца; а кто выйдет прежде, у того они вырвут цветок. Те же условия: очертить себя кругом и не оглядываться – необходимо соблюдать и при добывании клада. Замкнутая круговая черта служит преградою, за которую не может переступить нечистая сила; нож, четверговая свеча, рябиновая палка и лучина – эмблемы молнии, поражающей демонов».28
«Откуда возникло это сказание, трудно вообразить; по всему можно думать, что невозможность цвести папоротнику въявь как растению тайнобрачному (возьмем хоть грибы, которые тоже не цветут видимо) не есть ли насмешка ради того, что никому, мол, не нужно рассчитывать на слепое счастье, а пользоваться только трудом и от него получать средства к жизни.
Впрочем, есть предположение, что на папоротник садится самец светящегося червячка или светляка, который ночью, как известно, даёт от себя фосфорический свет; не это ли и породило басню? Червячок этот тоже носит название «Иванова»».29
«На Украине, в Белоруссии, у зап. славян и в западной части ю.-сдав. ареала (Словения и Хорватия) возжигание костров в канун И. К. – центральный акт купальской обрядности (в относительно редких случаях костры раскладывались ежедневно неделю или больше до праздника и несколько дней или неделю после него, но главным был костёр в ночь на И. К.). Костры раскладывали за селом (иногда несколько костров вокруг села), на выгоне, па возвышенном месте (чаще всего), у реки, над водой, на паровом поле или возле засеянного поля ржи, пшеницы, а также на границах сёл, на развилках и перекрёстках дорог, под большим одиноким деревом на открытом месте и т. п.
Целью разведения костров в большинстве случаев считалось «сожжение ведьмы (чаровницы)», отпугивание её, изгнание из села или «разоблачение» сельской ведьмы, которая якобы не могла не прийти к огню в эту ночь; однако встречаются и другие объяснения, например, в некоторых р-нах Словакии (окрестности Нитры) костры жгли для вызывания дождя».30
В купальскую ночь, согласно поверьям, ведьмы летают на шабаш, отбирают молоко у коров, вредят хлебным полям – похищают их урожайность, делают «заломы» и т. п. Люди в это время не только защищались от ведьм, но и старались их выследить, опознать и обезвредить. Считалось, что сожжение в купальском костре предметов, символизирующих ведьму, причиняет ей нестерпимые боли.
«Девушки изображали русалок: в белых рубахах и с распущенными волосами они бежали на луг, где пели, плясали, водили хороводы, а когда возвращались, то нападали на встречавшихся им парней и мужиков и хлестали их плётками».31
Безусловно, и подобные игры в русалок с битьём парней плётками были частью системы сексуального воспитания в традиционном обществе.
Помимо разгула нечистой силы, ведьм и русалок, позволялся и разгул молодёжи, недопустимый в обычное время. Но, судя по описаниям, вероятно, смысл этих бесчинств не носил сексуального характера и сводился скорее к сбросу скопившейся негативной энергии и освобождению от стресса.
«В купальскую ночь, как и в одну из ночей на святки, у вост. славян часто совершались ритуальные бесчинства молодёжи: крали дрова, телеги, ворота, затаскивали их на крыши, подпирали двери домов, замазывали окна и т. п.».32
Так что, в целом, летний солнцеворот — магическое время, когда участники праздника проходят очищение водой и огнём, ищут цветок папоротника, защищаются от ведьм и нечистой силы, молодёжь снимает стресс бесчинствами, играми в русалок, но всё же, самые главные обычаи связаны именно с предбрачными эротическими игрищами для холостой молодёжи.
«Стародавний, освящённый веками обычай, многие и многие годы спустя после исчезновения из памяти народной первобытного брака-умыкания, заставлял матерей ещё не так давно (в конце XVIII столетия) посылать девушек «невеститься» на Ярилины игрища. На последних допускалось самое свободное обращение молодёжи обоего пола между собою. В память этого ещё и теперь в начале Всесвятской недели происходит местами «смотрение невест», для чего последние сходятся в зелёной роще и проводят целый день в играх да песнях; а парни ходят – высматривают каждый пару себе по сердцу. При этом, впрочем, всё сопровождается полной благопристойностью. Собравшимися затевается игра «в горелки». Высмотревшие себе невест становятся попарно с приглянувшимися им девицами в длинный ряд; один из них, которому выпадет жребий «гореть», выступает вперёд всех и выкликает: «Горю, горю, пень!» – «Чего ты горишь?» – спрашивает его какая-нибудь девица-красавица. «Красной девицы хочу!» – «Какой?» – «Тебя, молодой!» После этого одна пара бросается в разные стороны, стараясь снова схватиться руками, а «горевший» пытается поймать девушку прежде, чем она успеет сбежаться со стоявшим с нею раньше парнем. Если «горящий» поймает девушку, то становится с ней в пару, а оставшийся одиноким «горит» вместо него; а не удается поймать – он продолжает гоняться за другими парами.
На Всесвятской (Ярилиной) неделе, по суеверному представлению народа, особенно неотразимую силу имеют всевозможные любовные заговоры – на присуху, на зазнобу да на разгару».33
В Заонежье, в локальных группах русской Карелии, «девичьи обнажения могли быть одним из многих, далеко не главных элементов обрядового действия, как это имело место в праздновании встречи лета в д. Суйсари, что расположена в 50-ти км к северу от г. Петрозаводска. Происходило празднование следующим образом. В ночь на Иванов день парни и девушки собирались за деревней у озера около большого приметного камня, именовавшегося у местных жителей «Тобот». У камня разводили костёр, прыгали через огонь парами, взявшись за руки (поперёк кострища) или поодиночке (вдоль кострища). Девушки, отделившись от парней, под утро шли в баню. Там готовили на каменке пироги-сканцы. Угостившись, собирали цветы и плели из них венки, а ещё ломали веники из тридевяти прутьев. Возвращались в баню, парились (для славы) этими вениками, после чего шли купаться в Онего-озеро с одними лишь венками на голове. Искупавшись, бросали венки в воду и смотрели, куда они поплывут, гадая о «судимой сторонушке»: «Куда он поплывёт, там мой суженый живёт». Если венок уносило в открытое Онего, считалось, что ещё год в девках сидеть придётся. Парни суйсарьские подглядывали за девушками». 34
Хотя принародные обнажения не были исключительно купальской традицией. Следует заметить, что «принародные обнажения мужчин и женщин в заонежской традиции не всегда воспринимались как эротические или магические. Ещё в начале XX в. у заонежан было принято ходить купаться в озере без одежд после жаркой бани. Это было нормой. По свидетельству В. Лосева, в 1908 г. на купающихся после бани голых девушек никто из местных жителей, т. е. заонежан, не обращал ни малейшего внимания».35
«Эротические забавы Ивановой ночи были тесно связаны с ритуалами, посвящёнными брачной тематике, с любовной магией и гаданиями о замужестве. Считалось, например, что если парень и девушка, прыгая через купальский костёр, не разомкнут руки, то их любовь будет вечной. Если во время прыжка парень подхватит на лету упавший с головы девушки венок, то он имеет право к ней свататься».36
Те же тенденции в купальских игрищах наблюдал и А.В. Терещенко: «В Калужской губернии существовало обыкновение, которое местами отправляется поныне, что парень, задумавший жениться, должен вытащить из воды венок для той, которую просит за себя. Вытащивши венок, он может свататься». 37
Важную роль в купальских игрищах играли и хороводы. «Хороводы составляли первоначально часть языческих религиозных обрядов. Нам кажется, что ритуал некоторых хороводов сохраняет в себе ясные следы первобытного гетеризма. Например, в одном хороводе девушки должны поочередно целовать парней с первого до последнего».38
«В этих хороводных играх и песнях, уцелевших от древних времен, мы также видим ясные следы тех свободных сговоров и обоюдного выбора женихов и невест, о которых говорит летописец. Мало того, что в этих играх парни выбирают себе девушек, а девушки – парней и составляют пары и что в хороводах выбор пары предоставляется девушкам наравне с парнями, – часто мужчины и женщины составляют две отдельные партии, которые сходятся затем, чтобы договариваться о свадьбах». 39
Как видно после хороводов и игрищ, «девушки и мужчины, побравшись за руки, прыгают попарно чрез огонь. Если при скакании не разойдётся пара, то это явная примета, что она соединится браком».40
«В Рязанской и Тамбовской губерниях праздник Ярила совершался в день Всех Святых или на другой день Петрова дня, во Владимире на Клязьме – в Троицын день, в Нижегородской губернии – июня 24-го, в день ярмарки, в Твери – в Первое воскресенье после Петрова дня. Здесь девушки и парни собирались плясать и веселиться. Матери охотно отпускали своих дочерей на это гулянье «поневеститься». Женихи высматривали невест, а невесты – женихов, но, однако, случались и дурные последствия от поневестыванья. Во время разгула дозволялись обнимания, целования, совершавшиеся под ветвистыми деревьями».41
«Очевидно, что «дев растление», которым сопровождались эти игрища, было жертвою в честь языческих божеств. Нужно думать, что вначале девушки не только могли являться на эти игрища, но и обязаны были к тому. Последнему предположению нисколько не противоречит то обстоятельство, что на этих игрищах заключались личные браки». 42
Из всех подобных описаний, которые встречаются в этнографической литературе, можно сделать вывод, что никаких признаков массовых купальских оргий мы не наблюдаем. А «растление дев» и, в целом, молодёжи, о котором так сокрушалась русская православная церковь заключается в прыжках через костёр, песнях, танцах, купаниях в реке голыми, хороводах и многочисленных игрищах с поцелуями и со сменами пар. И всё это было направлено на создание пары и последующее замужество.
А ведь из всех праздников Купала наиболее страстный в своей сексуальности.
«Цикл празднеств летнего солнцеворота начинался в день Аграфены Купальницы (день памяти св. мученицы Агриппины; 23 июня / б июля) и продолжался до Петрова дня (29 июня /12 июля), а его кульминацией был Иванов день (день Ивана Купалы; 24 июня / 7 июля), который считался «макушкой лета».
Эти дни отмечали как праздник природы, которая к этому времени достигает высшей точки своего расцвета. После дня Ивана Купалы её буйство постепенно «идёт на убыль»».43
«В троицко-купальском цикле (в отличие от Святок не столь тесно связанном по происхождению с культом предков) эротический элемент, как мы увидим в дальнейшем, обнаруживал себя прежде всего в проводных ритуалах, состоящих в изготовлении и последующем уничтожении обрядового чучела. Иными словами, сквернословие и вольное поведение и здесь зачастую соотносились именно с областью смерти, пусть даже символической. Что же касается специально купальской обрядности, то в ней эротический элемент органично вплетался в общую вседозволенность праздничного времени, когда люди, природа и потусторонние силы как бы объединялись в своём стремлении нарушить принятые нормы, воплотить невозможное и реализовать несбыточное (ср. в этом смысле бесчинные забавы молодёжи, поверья о разгуле нечистой силы, цветении папоротника, разговорах домашних животных и т. п.).
И ещё на одно обстоятельство обратим внимание. Эротические забавы и непристойное поведение практически всегда были связаны (во всяком случае – во временном плане) с ритуалами, посвящёнными матримониальной тематике, с любовной магией и гаданиями о супружестве. Таким образом, эротический «сюжет» обряда или обрядовой песни как бы на деле (пусть даже в самых крайних формах) реализовывал желаемое и вместе с тем создавал прецедент, следование которому (в отличие от самого анти-поведения) полностью отвечало норме».44
Коляда
«Коляда – ключевой термин, обозначающий Рождество и связанные с ним обрядовые реалии».45
«Святки, святые вечера – так обыкновенно называются в России, да и не в одном нашем отечестве, а и за границей, дни празднества, дни веселья и дни священного торжества Рождества Христова, начинавшегося с 25 декабря и оканчивавшегося обыкновенно пятым января следующего года. Это торжество соответствовало священным ночам у немцев. По другим наречиям Святки (swatki) означают праздники».46
«В Белоруссии и в Малороссии Святки называют Колядою, Каледою; название сходствует с римскими Kalendae от греческого глагола «сзывать», также от санскритского kala».47
«Декабря 24 русские язычники славили Коляду, о которой уже мы ранее говорили. По словам нашего знаменитого историка Карамзина, Коляда был бог пиршеств и мира, и хотя по созвучию можно производить Коляду от римских календ и других, но римские праздники этого названия были празднуемы во всех месяцах. А если находят, что наш рождественский праздник был сходствен с Янусовым, то причиною тому было, вероятно, не что иное, как влияние римского владычества над славянскими народами, причём, конечно, каждый народ, усваивая и принимая чуждые понятия и верования, всегда ищет в них сходства внешнего или внутреннего со своими коренными понятиями и верованиями.

