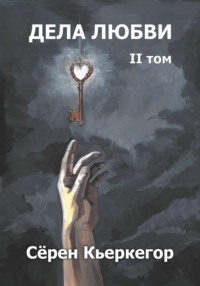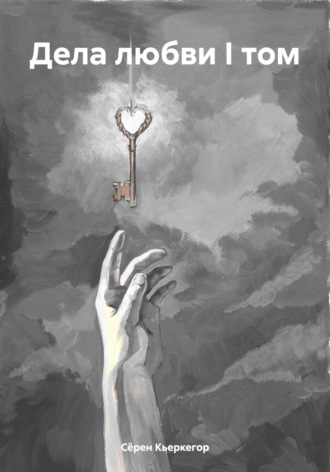
Дела любви I том
Только когда любовь – это долг, только тогда любовь навсегда счастлива и защищена от отчаяния.
Непосредственная любовь может стать несчастной, может прийти к отчаянию. Опять же, может показаться, что сила любви выражается в том, что она имеет силу отчаяния, но это только видимость; ибо сила отчаяния, как бы её ни подчёркивали – это бессилие, её высшее проявление – это разрушение. Однако то, что непосредственная любовь может прийти к отчаянию, показывает, что она в отчаянии, что даже когда она счастлива, она любит с силой отчаяния – любит другого человека «больше, чем самого себя, больше, чем Бога». Об отчаянии следует сказать: отчаиваться может только тот, кто находится в отчаянии. Когда непосредственная любовь впадает в отчаяние из-за несчастья, тогда просто становится очевидным, что она уже была в отчаянии, что в своем счастье она тоже была в отчаянии. Отчаяние заключается в том, чтобы держать индивидуума с бесконечной страстью; ибо с бесконечной страстью можно держаться за вечное только в том случае, если не находишься в отчаянии. Непосредственная любовь, таким образом – это отчаяние; но когда она становится счастливой, как её называют, тогда от неё скрыто, что она находится в отчаянии, когда она становится несчастной, тогда становится очевидно, что она была в отчаянии. Любовь же, которая претерпела изменение вечности, став долгом, никогда не может отчаиваться, именно потому, что она не находится в отчаянии. Ведь отчаяние – это не то, что может случиться с человеком, не событие, подобное счастью или несчастью. Отчаяние – это несоответствие в самом сокровенном его существа – настолько далёкое, настолько глубокое, что ни судьба, ни события не могут вмешаться в него, а могут только открыть, что это несоответствие – было. Поэтому есть только одна защита от отчаяния: претерпеть изменение вечности посредством «должен» долга; тот, кто не претерпел этого изменения, находится в отчаянии; счастье и благополучие могут скрыть это; несчастье и беда, напротив, не приводят его, как он думает, в отчаяние, но они показывают, что он был в отчаянии. Если мы говорим иначе, то это потому, что мы легкомысленно путаем высшие понятия. То, что действительно приводит человека в отчаяние – это не несчастье, а то, что ему не хватает вечного; отчаяние – это отсутствие вечного; отчаиваться – значит не претерпевать изменения вечности посредством «должен» долга. Поэтому отчаяние – это не потеря возлюбленного, не несчастье, боль и страдание; но отчаяние – это отсутствие вечного.
Как же тогда любовь, предписываемая заповедью, защищена от отчаяния? Очень просто, через заповедь, через это «Ты должен любить». Ибо в ней прежде всего говорится, что вы не должны любить так, чтобы потеря возлюбленного показала, что вы были в отчаянии, то есть, что вы вообще не должны любить в отчаянии. Означает ли это, что любить запрещено? Ни в коем случае; было бы действительно странно, что заповедь, гласящая: «Ты должен любить», своим повелением запрещала бы любить. То есть заповедь запрещает любить только так, как не заповедано; по сути, заповедь не запрещает, а повелевает любить. Поэтому заповедь любить не защищает от отчаяния с помощью слабых, вялых доводов для утешения – что нельзя ничего принимать всё слишком серьёзно и так далее. И действительно, не является ли такая жалкая мудрость, которая «перестала скорбеть», меньшим отчаянием, чем отчаяние любящего, не является ли она, скорее, ещё худшим видом отчаяния? Нет, заповедь любить запрещает отчаяние – повелевая любить. У кого хватит смелости сказать это, кроме вечности? Кто готов произнести это «должен», кроме вечности, которая в тот самый момент, когда любовь приходит в отчаяние из-за своего несчастья, повелевает ей любить? Где, как не в вечности, может появиться эта заповедь? Ибо когда во временном невозможно обладать возлюбленным, тогда вечность говорит: «Ты должен любить», то есть вечность спасает любовь от отчаяния именно тем, что делает её вечной. Если смерть разделяет двоих – когда скорбящий впадает в отчаяние – что поможет ему? Временное утешение – ещё более печальный вид отчаяния; и тогда на помощь приходит вечность. Когда она говорит: «Ты должен любить», то это значит: «Твоя любовь имеет вечную силу». Но она говорит это не с утешением, потому что это не помогло бы; она говорит это с повелением, именно потому, что существует опасность. И когда вечность говорит: «Ты должен любить», то она ручается, что это осуществимо. О, что такое любое другое утешение по сравнению с утешением вечности, что такое любая другая глубокая скорбь по сравнению со скорбью вечности! Если бы кто-то сказал более мягко: «Утешайтесь», тогда скорбящий, вероятно, готов был бы возразить; но – да, не потому что вечность гордо не примет возражений – из заботы о скорбящем она повелевает: «Ты должен любить».
Чудесное утешение! Чудесное сострадание! Ибо с человеческой точки зрения, это действительно очень странно, почти что насмешка – сказать отчаявшемуся человеку, что он должен сделать то, что было его единственным желанием, но невозможность которого приводит его в отчаяние. Нужны ли ещё какие-то доказательства того, что заповедь любви имеет божественное происхождение? Если вы попытаетесь проверить это, подойдите к такому скорбящему в тот момент, когда потеря возлюбленного грозит сокрушить его, и посмотрите, что вы можете сказать; признайтесь, что вы хотите утешить его; единственное, что не придёт вам в голову – это сказать: «Ты должен любить». И, с другой стороны, посмотрите, не вызовет ли это, как только оно будет сказано, почти ожесточение у скорбящего, потому что это кажется самым неподходящим, что можно сказать в таком случае. О, но вы, испытавшие горький опыт, вы, обнаружившие в тот тяжелый момент пустоту и отвратительность человеческих утешений – но не утешений; вы, с ужасом обнаружившие, что даже предостережения вечности не могут удержать вас от падения – вы научились любить это «должен», которое спасает от отчаяния! В чём вы, возможно, часто убеждались в незначительных ситуациях, что истинное назидание – это, строго говоря, то, что научило вас в самом глубоком смысле: что только это «должен» навечно счастливо спасает от отчаяния. Навечно счастливо – да, ибо только тот спасён от отчаяния, кто вечно спасён от отчаяния. Любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, не избавлена от несчастья, но она спасена от отчаяния, в счастье и несчастье одинаково спасена от отчаяния.
Вот, страсть возбуждает, земная мудрость охлаждает, но ни этот жар, ни этот холод, ни смешение этой жары и этого холода не являются чистым воздухом вечного. В этой жаре есть что-то жгучее, и в этом холоде есть что-то резкое, и в смешении того и другого есть что-то неопределённое, или неосознанная обманчивость, как в опасное время весны. Но это «Ты должен любить» устраняет всю нездоровость и сохраняет здравость для вечности. Так везде; это «должен» вечности – спасающее, очищающее, облагораживающее. Посидите с человеком, пребывающем в глубокой скорби; вы можете на мгновение успокоить его, если вы способны выразить страсть отчаяния, на что не способен даже сам скорбящий; но всё же это ложное утешение. Это может на мгновение освежающе соблазнить, если у вас хватит мудрости и опыта, чтобы показать временную перспективу там, где скорбящий ничего не видит; но всё же это ложное утешение. С другой стороны, это «Ты должен скорбеть» одновременно и истинно, и прекрасно. Я не имею права ожесточать свое сердце перед болью жизни, ибо я должен скорбеть; но я не имею права и отчаиваться, ибо я должен скорбеть; и в то же время я не имею права и перестать скорбеть, ибо я должен скорбеть. Так же и с любовью. Вы не имеете права ожесточаться против этого чувства, ибо вы должны любить; но вы не имеете права и любить в отчаянии, ибо вы должны любить; и вы не имеете права подавлять это чувство в себе, ибо вы должны любить. Вы должны сохранять любовь, и вы должны сохранять себя, и сохраняя себя, вы сохраняете любовь. Там, где человек рвётся вперёд, заповедь сдерживает; там, где человек теряет мужество, заповедь укрепляет; там, где человек устаёт и становится расчётливым, заповедь воспламеняет и дает мудрость. Заповедь поглощает и сжигает нездоровость вашей любви, но благодаря заповеди вы снова сможете разжечь её, когда по-человечески она уже угасла. Там, где вы думаете, что легко можете дать совет, возьмите заповедь, чтобы она дала вам совет; там, где вы отчаялись дать себе совет, пусть заповедь даст вам совет; но там, где вы не знаете, как дать совет, заповедь даст вам совет, чтобы всё было хорошо.
II
В. ВЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО
Именно христианская любовь открывает и знает, что существует «ближний», и, что то же самое, что каждый человек является «ближним». Если бы любовь не была долгом, то не было бы и понятия «ближний»; но только когда человек любит ближнего, только тогда искореняется эгоизм в любви и сохраняется равенство вечного.
Христианство часто упрекали, хотя и в разных формах и настроениях, с разными страстями и целями, что оно подавляет земную любовь и дружбу. Впрочем, некоторые пытались защитить христианство и для этой цели обращались к его учению о том, что нужно любить Бога всем сердцем и своего ближнего, как самого себя. Если спор ведётся таким образом, то не имеет значения, спорить или соглашаться, поскольку и борьба в воздухе и соглашение в воздухе одинаково не имеют значения. Скорее нужно увидеть, как прояснить этот вопрос, чтобы со всем спокойствием признать в его защиту, что христианство свергло с престола земную любовь и дружбу, импульсивную и избирательную любовь, пристрастие, чтобы поставить на её место духовную любовь, любовь к ближнему, любовь, которая по искренности, истине и внутренней сущности нежнее любой земной любви – в союзе, и вернее по искренности самой знаменитой дружбы – в согласии. Скорее нужно увидеть, чтобы стало совершенно ясно, что восхваление земной любви и дружбы принадлежит язычеству, что «поэт» на самом деле принадлежит язычеству, поскольку его задача принадлежит ему – чтобы затем твёрдым духом убеждения дать христианству то, что принадлежит христианству – любовь к ближнему, о которой язычество не имеет ни малейшего представления. Скорее нужно увидеть, как правильно провести разделение, чтобы, если возможно, дать человеку возможность выбора вместо того, чтобы сбивать с толку и путать, тем самым мешая человеку получить определённое представление о том, что есть что. И скорее нужно перестать защищать христианство вместо того, чтобы сознательно или бессознательно стремиться утверждать всё – в том числе и нехристианское.
Всякий, кто со всей серьёзностью и проницательностью рассмотрит этот вопрос, легко увидит, что спорный вопрос должен быть поставлен так: является ли земная любовь и дружба высшим выражением любви, или эту любовь нужно отодвинуть на второй план? Земная любовь и дружба связаны со страстью; но всякая страсть, нападает ли она или защищается, борется только одним способом: «или – или»; «Или я существую и являюсь высшим, или я вообще не существую, или всё, или ничего». Обман и путаница (против которых язычество и поэт выступают так же, как и против христианства) появляется тогда, когда защита сводится к тому, что христианство, несомненно, учит высшей любви, но что оно поощряет также земную любовь и дружбу. Подобные высказывания выдают двойственность мышления – у говорящего нет ни духа поэта, ни духа христианства. Что касается состояния духа, то нельзя – если хотите избежать глупостей, – говорить как лавочник, у которого есть товар лучшего качества, но есть и похуже, который он смеет рекомендовать как почти такой же хороший. Нет, если верно то, что христианство учит тому, что любовь к Богу и ближнему есть истинная любовь, то верно и то, что Тот, Кто низложил «всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяет всякое помышление в послушании»41, также низложил земную любовь и дружбу. Разве не странно было бы, если бы христианство было таким нескладным и запутанным, каким его хотят представить многие защитники, и зачастую хуже любого нападения; разве это не странно, что во всём Новом Завете нет ни слова о любви в том смысле, в каком её воспевает «поэт» и обожествляет язычество; разве это не странно, что во всём Новом Завете нет ни слова о дружбе в том смысле, в каком её воспевает «поэт» и обожествляет язычество? Или пусть «поэт», считающий себя поэтом, посмотрит, чему учит Новый Завет о земной любви, и он придёт в отчаяние, потому что он не найдет ни одного слова, которое могло бы его вдохновить – и если какой-нибудь так называемый поэт всё же найдёт слово, которое он мог бы применить, то это будет лживое применение, нечестное применение, потому что вместо того, чтобы благоговеть перед христианством, он крадёт драгоценное слово42 и искажает его применение. Пусть «поэт» исследует Новый Завет, чтобы найти слова о дружбе, которые бы понравились ему, и он будет искать их напрасно, вплоть до отчаяния. Но пусть поищет христианин, желающий любить ближнего своего; и воистину, он не будет искать напрасно, но найдет одно слово сильнее и авторитетнее другого, полезное ему для того, чтобы зажечь в нём эту любовь и сохранить его в этой любви.
«Поэт» будет искать напрасно. Но разве тогда поэт не является христианином? Мы, конечно, этого не говорили и не говорим; а лишь утверждаем, что поскольку он «поэт», он не христианин. Однако необходимо провести различие, ибо есть и благочестивые поэты. Но они не воспевают земную любовь и дружбу; их песни – во славу Бога, о вере, надежде и любви. Эти поэты не воспевают любовь в том смысле, в каком воспевает земную любовь «поэт», потому что о любви к ближнему не поют, а действуют. Даже если бы ничто не мешало поэту воспевать любовь к ближнему в стихах, то уже достаточно того, чтобы помешать ему, потому что на каждом слове в Священной Книге перед ним невидимой надписью стоит знак, который его беспокоит, ибо там написано: «Иди и поступай так же»43 – звучит ли это как поэтический призыв, побуждающий его петь?
Так что с Божьим поэтом – это отдельный вопрос, а с мирским поэтом верно то, что, поскольку он «поэт» – он не христианин. И всё же когда говорим о «поэте», мы думаем именно о мирском поэте. То, что «поэт» живёт в христианском мире, не имеет никакого значения. Является ли он христианином, решать не нам, но поскольку он «поэт» – он не христианин. Конечно, может показаться, что раз христианство существует так долго, оно должно уже проникнуть во все отношения – и во всех нас. Но это обман. То, что христианство существует так долго, вовсе не означает, что именно мы жили так долго или так долго были христианами. Само существование «поэта» в христианстве и место, отведённое ему (ибо грубость и зависть по отношению к нему, конечно, не являются христианским возражением или недовольством против его существования) являются серьёзным напоминанием о том, как много было получено ранее, и о том, как легко мы поддаёмся искушению вообразить себя намного опередившими самих себя. Увы, если христианскую проповедь иногда почти не слушают, то все слушают поэта, восхищаются им, учатся у него, очаровываются им. Увы! Когда быстро забываешь, что сказал проповедник, как точно и как долго помнишь, что сказал поэт, особенно то, что он сказал с помощью актёра! Смысл этого не в том, чтобы, возможно, силой, попытаться убрать поэта; ибо это приведёт лишь к новому обману. Что толку от отсутствия поэта, если в христианстве так много тех, кто удовлетворён пониманием бытия, внушаемое поэтом, так много тех, кто тоскует по «поэту»! От христианина и не требуется, чтобы он в слепом и неразумном усердии дошёл до того, чтобы он больше не мог читать поэта – также как не требуется, чтобы он не ел привычную для других пищу или жил отдельно от других людей в уединении. Нет, но христианин должен понимать всё не так, как нехристианин; он должен понимать себя, зная, как проводить различия. Человек не смог бы жить каждое мгновение исключительно высшими христианскими представлениями, как он не может жить, питаясь только со стола Господнего. Поэтому пусть «поэт» существует, пусть каждым поэтом восхищаются, как он того заслуживает, если он действительно поэт, но пусть каждый человек в христианстве докажет свою христианскую убеждённость с помощью этого испытания – как он относится к «поэту», что он думает о нём, как он его читает, как он им восхищается. Видите ли, в наше время об этом почти не говорят.
Увы, многим эти размышления могут показаться ни достаточно христианскими, ни достаточно серьёзными именно потому, что они касаются таких тем, которые, следует отметить, так сильно занимают людей шесть дней в неделю и даже в седьмой день занимают больше часов, чем Божье. Тем не менее, мы верим – как потому, что нас с детства наставляли и обучали в христианстве, так и потому, что в зрелые годы мы посвятили этому служению наши дни и наши лучшие силы, хотя мы всегда повторяем, что наша речь «не имеет авторитета», – мы думаем, что знаем, как надо говорить и особенно что надо говорить в эти времена. Мы все крещены и наставлены в христианстве, поэтому не может быть и речи о распространении христианства. С другой стороны, мы не вправе судить, что любой называющий себя христианином таковым не является; поэтому не может быть и речи об исповедующем христианство в противовес нехристианину. Наоборот, очень полезно и необходимо человеку внимательно и добросовестно вникать в себя и по возможности помогать другим (насколько один человек может помочь другому, ибо истинный помощник – только Бог) становиться христианами во всё более и более глубоком смысле. Слово «христианство» как общий термин для целого народа – это титул, который легко может сказать слишком много и поэтому может легко заставить человека слишком много о себе думать. Обычно, по крайней мере в других местах, у шоссе устанавливают знаки, указывающие, куда ведёт дорога. Возможно, в тот самый момент, когда человек отправляется в путь, он уже видит по такому указателю, что эта дорога ведёт в то отдалённое место, которое является целью его путешествия – значит ли это, что он достиг этого места? То же самое и с этим дорожным знаком – «христианство». Оно указывает направление, но достиг ли человек цели, или же он всегда находится только в пути? Или же идти вперёд по дороге – это значит раз в неделю в течение одного часа идти по ней, а остальные шесть дней жить совершенно другими представлениями, и при этом даже не пытаться понять, как это можно совместить?
Неужели это и есть серьёзность – скрывать истинное положение дел и обстоятельств, чтобы со всей серьёзностью говорить о самом серьёзном, которое, однако, вполне можно было бы опустить из-за путаницы, чьё отношение к этой серьёзности – из чистой серьёзности – не раскрывается? У кого сложнее задача – у учителя, который представляет серьёзность как находящуюся на головокружительном расстоянии от повседневных дел, или у ученика, который должен применить его объяснение? Разве умалчивать о серьёзном – это просто обман? Разве не менее опасный обман – говорить об этом, но при определённых обстоятельствах, и представлять это – но в свете, совершенно отличном от повседневной реальности? Если же вся мирская жизнь, её блеск, её развлечения, её очарование могут столь многими способами пленить и околдовать человека, то что же тогда серьёзно: либо из чистой серьёзности молчать о мирском в церкви, либо серьёзно говорить об этом, чтобы, если возможно, укрепить людей против мирских опасностей? Неужели нельзя говорить о мирском торжественно и по-настоящему серьёзно? А если нельзя, то следует ли из этого, что о нём нужно умалчивать в божественном наставлении? Увы, нет, из этого следует только то, что оно должно быть запрещено в божественном наставлении по самому торжественному случаю.
Поэтому мы проверим христианское убеждение «поэта». Чему учит поэт, говоря о земной любви и дружбе? Здесь речь идет не о том или ином конкретном поэте, а только о «поэте», то есть только о нём в той мере, в какой он как поэт верен себе и своей задаче. Таким образом, если так называемый поэт разуверился в поэтической ценности любви и дружбы, в своём понятии, и заменил её чем-то другим, то он не поэт, и, возможно, то другое, чем он заменил – это вовсе не христианство, а чистой воды обман. В основе земной любви лежит порыв, который, объясняемый как привязанность, имеет своё высшее, своё безусловное, своё поэтически безусловное, исключительное выражение в том, что в целом мире есть только один-единственный возлюбленный, и что только первая любовь – это любовь44, это всё, вторая же любовь – ничто. Есть пословица, что один раз – это ничто; здесь, наоборот, один раз – это безусловно всё, второй раз – безусловное крушение всего.
Это поэзия, и акцент в ней безусловно сделан на высшем проявлении страсти: быть или не быть. Любить во второй раз – также не любовь, но мерзость для поэзии. Если так называемый поэт хочет заставить нас думать, что земная любовь может повториться в одном и том же человеке, если так называемый поэт хочет побаловаться умной глупостью, которая исчерпала бы тайну страсти в «почему» мудрости, тогда он не поэт. И то, что он ставит на место поэтического, не является христианским. Христианская любовь учит любить всех людей, безусловно всех. Насколько безусловно и сильно земная любовь стремится к мысли о существовании единственного объекта любви, настолько же безусловно и сильно христианская любовь стремится в противоположном направлении. Если в христианской любви сделать исключение для единственного человека, которого не хотите любить, то такая любовь не является «также христианской любовью», но она безусловно не является христианской любовью.
А между тем в так называемом христианстве происходит та же самая путаница: поэты отказались от страстной любви, они уступают, они ослабляют напряжение страсти, они сбрасывают (добавляя) и считают, что человек в смысле влюбленности может любить много раз, и поэтому может быть несколько объектов любви; так называемая христианская любовь также уступает, ослабляет напряжение вечности, уменьшает её требования и считает, что если сильно любить, тогда это христианская любовь. Таким образом, и поэтическое, и христианское смешалось; и то, что заняло их место – ни поэтическое, ни христианское. Страсть всегда обладает таким безусловным свойством, что она исключает третье, то есть третье вносит путаницу. Любить без страсти невозможно; но различие между любовью и христианской любовью заключается поэтому в единственно возможном вечном различии страсти. Никакого другого различия между любовью и христианской любовью представить себе невозможно. Следовательно, если человек думает, что он может понять свою жизнь одновременно с помощью «поэта» и с помощью христианского объяснения, если он думает, что он может понять эти два объяснения вместе – и так, чтобы придать смысл своей жизни – тогда он заблуждается. Поэтическое и христианское объяснение – полная противоположность; «поэт» поклоняется склонности, и поэтому он совершенно прав, поскольку думает только о земной любви, что заповедь о любви – величайшая глупость и самое неразумное изречение; поскольку христианство думает только о христианской любви, оно также совершенно право, свергая с престола склонность и ставя на её место это «должен».
«Поэт» и христианство объясняют прямо противоположное или, точнее говоря, поэт не объясняет ничего, потому что он объясняет земную любовь и дружбу – загадками; он объясняет земную любовь и дружбу как загадки, но христианство объясняет любовь вечно. Отсюда мы снова видим, что невозможно жить одновременно обоими объяснениями, ибо величайшее возможное противоречие между двумя объяснениями, безусловно, в том, что одно не является объяснением, а другое является объяснением. Поэтому земная любовь и дружба, как их понимает поэт, не связаны никакими нравственными задачами. Любовь и дружба – это счастье; счастье, понимаемое поэтически (и, конечно, поэт прекрасно понимает счастье), большое счастье – влюбиться, найти того единственного возлюбленного; счастье, почти столь же большое счастье – найти того единственного друга. В лучшем случае нравственная задача состоит только в том, чтобы быть должным образом благодарным за своё счастье. С другой стороны, задача вовсе не состоит в том, чтобы найти возлюбленного или найти друга; это невозможно, поэт прекрасно это понимает. Следовательно, задача зависит от того, поставит ли счастье эту задачу; но это как раз выражение того, что в нравственном понимании никакой задачи нет. Если, с другой стороны, человек должен любить своего ближнего, тогда задача – это нравственная задача, которая опять же является источником всех задач. Именно потому, что христианство – это истинная мораль, оно умеет сокращать пространные размышления, пресекать объёмные предисловия, устранять все временные ожидания и не допускать пустой траты времени. Христианство немедленно приступает к выполнению своей задачи, потому что оно несёт её в себе. В мире ведутся великие споры о том, что следует называть высшим. Но что бы этим ни называлось, в чём бы ни заключалась это различие, с его пониманием связано невероятно много сложностей.