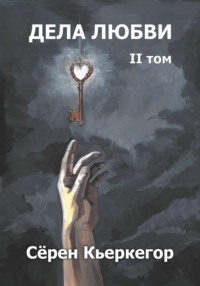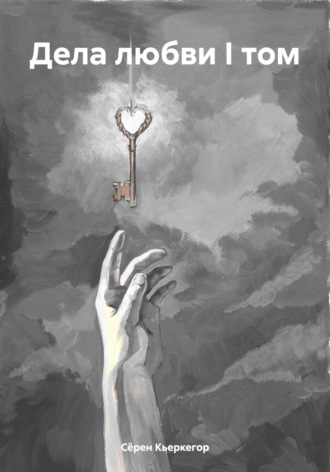
Дела любви I том
Эта тайная любовь может быть образом веры; но нетленное внутреннее веры в сокрытом человеке – это жизнь. Тот, кто мудр, как змея, охраняет себя от людей, чтобы прост, как голубь, он мог «хранить тайну веры»27, тот, как сказано в Писании, имеет «в себе соль»28; но если он не охраняет себя от людей, то соль теряет свою силу, и разве тогда это соль? И если тайная любовь может погубить человека, то вера всегда и во все времена является спасительной тайной! Вот, эта женщина, страдающая кровотечением29; она не рвалась вперёд, чтобы прикоснуться к одежде Христа; она не говорила другим о своих намерениях и о своей вере; она тихо сказала себе: «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». Она хранила эту тайну в себе, эту тайну веры, которая спасла её и во времени, и в вечности. Вы также можете хранить эту тайну веры в себе, и когда вы смело исповедуете веру; и когда вы беспомощно лежите на больничной койке и не можете пошевелить ни рукой ни ногой, когда вы не можете пошевелить и языком, вы всё же можете хранить в себе эту тайну.
Но происхождение веры связано с началом христианства. Ни в коем случае не нужны подробные описания язычества, его заблуждений, его особенностей – признаки подобия Христу содержатся в самом христианстве. Попробуйте сделать так: забудьте на мгновение о христианстве, подумайте о том, что вы знаете о другой любви, вспомните, что вы читали у поэтов, что вы можете узнать сами, а затем скажите, приходила ли вам когда-нибудь в голову такая мысль: «Ты должен любить»? Будьте честны, или, чтобы это вас не смущало, я честно признаюсь, что много-много раз в моей жизни это вызывало во мне полное изумление, что иногда мне казалось, будто любовь теряет всё из-за этого сравнения, хотя она всё приобретает. Признайтесь честно, что, пожалуй, большинство людей, читая восторженные описания любви или дружбы у поэтов, считают их чем-то гораздо более высоким, чем скромное: «Ты должен любить».
«Ты должен любить». Только тогда, когда любить – это долг, только тогда любовь навсегда защищена от всякого изменения, навсегда освобождена в блаженной независимости; навсегда счастлива, защищена от отчаяния.
Какой бы радостной, какой бы счастливой, какой бы неописуемо доверчивой ни была любовь порыва и влечения, непосредственная любовь как таковая – она всё же чувствует, даже в самый прекрасный момент, потребность связать себя, если это возможно, ещё крепче. Поэтому двое клянутся; они клянутся друг другу в верности или дружбе; и когда мы говорим о них наиболее торжественно, мы не говорим: «Они любят друг друга», но: «Они поклялись друг другу в верности» или «Они поклялись друг другу в дружбе». Но чем же клянется эта любовь? Мы не хотим отвлекать внимание и уводить его напоминанием о великом различии, о котором представители этой любви, «поэты», благодаря своему посвящению знают лучше всего – ибо в этой любви именно поэт принимает обет двоих; поэт соединяет двоих; поэт произносит клятву двоим и заставляет их принять её; короче говоря, именно поэт является священником. Клянется ли эта любовь чем-то более высоким, чем она сама? Нет, не клянётся. В этом и состоит прекрасное, трогательное, таинственное, поэтическое непонимание, что эти двое сами этого не признают; и именно поэтому поэт —их единственный, их любимый наперсник, потому что он тоже этого не признаёт.
Когда эта любовь клянётся чем-то, она на самом деле придаёт себе значение того, чем она клянётся; сама любовь набрасывает отблеск на то, чем она клянётся, так что она не только не клянётся ничем высшим, но на самом деле клянется чем-то, что ниже её самой. Так неописуемо богата эта любовь в своём любящем непонимании; ибо именно потому, что она сама по себе является бесконечным богатством, безграничной надёжностью, она, когда желает поклясться, приходит к тому, что клянётся чем-то более низким, но даже не осознаёт этого. Из этого опять же следует, что эта клятва, которая, безусловно, должна быть и которая к тому же искренне считает себя в высшей степени серьёзной, тем не менее остаётся очаровательнейшей шуткой. И ни один таинственный друг, поэт, чья совершенная уверенность и является высшим пониманием этой любви, не понимает этого. Однако легко понять, что если хочешь поклясться в истине, то надо поклясться чем-то высшим; только Бог на небесах воистину может клясться Самим Собой. Но поэт не может этого понять, то есть человек, который является поэтом, может это понять, но он не может этого понять, потому что он поэт, а «поэт» не может этого понять, ибо поэт может понять всё – в загадках, и может замечательно объяснить всё – в загадках, но он не может понять себя или понять, что сам он – загадка. Если бы его заставили понять это, то он, если бы не пришёл в ярость и негодование, печально сказал бы: «Лучше бы мне не навязывали это понимание, которое нарушает мою красоту, нарушает мою жизнь, а я не могу этим воспользоваться». И в этом поэт безусловно прав, ибо истинное понимание решает жизненно важный вопрос его существования. Таким образом, есть две загадки: первая – это любовь двоих, вторая – объяснение её поэтом, или то, что объяснение поэта – тоже загадка.
Итак, эта любовь даёт клятву, а затем двое добавляют к клятве, что они будут любить друг друга «вечно». Если этого не добавить, то поэт не соединит их; он равнодушно отворачивается от такой временной любви или насмешливо обращается против неё, тогда как он навсегда принадлежит той вечной любви. Таким образом, на самом деле есть два союза: первый – двое, которые будут любить друг друга вечно, а второй – поэт, который вечно будет принадлежать этим двоим. И в этом поэт прав, что если два человека не будут любить друг друга вечно, то их любовь не стоит того, чтобы о ней говорить, и уж тем более воспевать её в стихах. С другой стороны, поэт не замечает недоразумения, что двое клянутся своей любовью любить друг друга вечно вместо того, чтобы клясться вечностью в своей любви друг другу. Вечность – это высшее; если клясться, то клясться надо высшим, а если клясться вечностью, то клясться надо «долгом любить». Увы, но этот любимец влюбленных, поэт! Ещё реже, чем двое истинных влюблённых, он сам становится тем любящим, которого ищет его тоска, тем, кто сам является чудом любви. Он, как нежный ребёнок, не может вынести этого «должен»; как только он слышит это, он либо теряет терпение, либо начинает плакать.
Таким образом, эта непосредственная любовь содержит вечное в форме прекрасной фантазии, но она сознательно не основана на вечном, и потому может изменяться. Даже если она не изменяется, она всё равно сохраняет возможность изменения, поскольку зависит от удачи. Но то, что верно в отношении удачи, верно и в отношении счастья, которое, если мы думаем о вечном, нельзя рассматривать без страха, подобно тому, как с ужасом говорят: «Счастье есть – это когда оно было». То есть, пока оно существует или существовало, изменение было возможно; только когда оно прошло, можно сказать, что оно существовало. «Не называй человека счастливым, пока он не умрёт»30; ведь пока он жив, его судьба может измениться; только когда он умрёт, и счастье не покинуло его при жизни, можно сказать, что он был счастлив. То, что просто существует, то, что не претерпело никаких изменений, всегда имеет возможность изменения извне. Изменения всегда возможны; они могут произойти даже в последний момент, и только когда жизнь закончена, можно сказать: «Изменения не произошли» – а может, и произошли. То, что не претерпело никаких изменений, безусловно, имеет непрерывность, но оно не имеет неизменности. В той мере, в какой оно обладает непрерывностью, оно существует, но в той мере, в которой оно приобрело неизменность через изменение, оно не может стать одновременным с самим собой, и тогда оно пребывает в блаженном неведении этой несоразмерности, либо склонно к печали. Ибо вечное – это единственное, что может быть, стать и оставаться одновременным с каждой эпохой. С другой стороны, временное существование само по себе разделяет, и настоящее не может быть одновременным с будущим, или будущее с прошлым, или прошлое с настоящим. Поэтому о том, что, претерпев изменения, обрело неизменность, о том, когда оно существовало, нельзя просто сказать: «Оно существовало», но можно сказать: «Оно существовало, пока оно существовало». Именно в этом и заключается уверенность, а это совершенно иное отношение, чем у счастья. Когда любовь претерпела изменение вечности, став долгом, она обрела неизменность, и из этого следует, что она существует. Ведь из того, что существует в данный момент, вовсе не следует, что оно будет существовать и в следующий момент, но из того, что оно существует, само собой следует, что неизменное существует.
Мы говорим о чём-то, что выдержало испытание, и хвалим его, когда оно выдержало испытание. Но мы всё же говорим о несовершенном, ибо неизменность неизменного не проявляется и не может проявиться, подвергаясь испытанию – ибо она неизменна, и только тленное может придать себе видимость неизменности, пройдя испытание. Поэтому никому не придёт в голову сказать о чистом серебре, что оно должно выдержать испытание временем, потому что это чистое серебро. Так же и с любовью. Любовь, которая просто непрерывна, какой бы счастливой, какой бы блаженной, какой бы доверчивой, какой бы поэтичной она ни была, всё равно должна выдержать испытание годами; но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, обрела неизменность – это чистое серебро. Так неужели эта любовь, которая претерпела изменение вечности, менее полезна, менее ценна в жизни? Разве чистое серебро менее ценно? Конечно, нет; но язык непроизвольно и мысль сознательно почитают чистое серебро особенным образом, ибо о нём просто говорят, что «его используют». Вообще ничего не говорится о его проверке; никто не оскорбляет его желанием испытать, заранее зная, что чистое серебро выдержит испытание. Поэтому, если кто-то использует менее надёжный состав, то он вынужден быть более сдержанным и говорить менее однозначно; он вынужден говорить почти двусмысленно, говорить двояко: «его используют, и пока его используют, его проверяют», ибо всегда есть возможность изменения.
Следовательно, только когда любовь – это долг, только тогда она вечно надёжна. Эта надёжность вечности изгоняет все тревоги и делает любовь совершенной, совершенно надёжной. Ибо в той любви, которая имеет только непрерывность, какой бы уверенной она ни была, всё же есть одна тревога – тревога о возможности изменения. Она сама не понимает, также, как и поэт, что это тревога; ибо тревога сокрыта, и лишь жгучее желание выразить любовь является признанием того, что в глубине сокрыта тревога. Иначе почему непосредственная любовь так готова и даже так сильно любит подвергать любовь испытанию? Это именно потому, что любовь, став долгом, в глубочайшем смысле не подверглась «испытанию». Отсюда это, как сказал бы поэт, сладостное волнение, которое желает всё более и более безрассудно испытывать. Любящий испытывает возлюбленную, друг испытывает друга; испытание, несомненно, основано на любви, но это неистово жгучее желание испытывать, это страстное стремление подвергнуть любовь испытанию, тем не менее, свидетельствует о том, что сама любовь бессознательно неуверенна. И снова в непосредственной любви и в объяснениях поэта возникает таинственное недоразумение. Любящий и поэт думают, что это желание испытать любовь – лишь выражение того, насколько она надёжна. Но так ли это на самом деле? Совершенно верно, что не хочется испытывать то, что не имеет значения; но это не значит, что желание испытать возлюбленного выражает уверенность. Двое любят друг друга, они любят друг друга вечно, они настолько уверены в этом, что … готовы проверить это. Является ли эта уверенность наивысшей? Разве здесь не похоже на то, когда любовь клянётся и при этом клянётся тем, что ниже любви? Так что для любящих высшим выражением постоянства любви является то, что она просто имеет существование, ибо проверяется то, что просто имеет существование – оно подвергается испытанию.
Но когда любить – это долг, тогда нет нужды в испытании и в оскорбительной глупости желания испытывать; поскольку любовь выше любого испытания, она уже более чем выдержала испытание, в том же смысле, что и вера «более чем побеждает»31. Испытание всегда связано с возможностью; и всегда есть вероятность того, что то, что проверяется, может не пройти испытание. Поэтому, если бы человек захотел проверить, есть ли у него вера, или попытался обрести веру, это будет означать, что он не даст себе обрести веру; он введёт себя в беспокойство, где вера никогда не победит, ибо «ты должен верить». Если верующий умоляет Бога подвергнуть его веру испытанию, это не означает, что у него очень сильная вера (думать так – это заблуждение поэта, так же, как и иметь «очень сильную» веру, поскольку обычная вера и является наивысшей), но это означает, что он не совсем имеет веру, ибо «ты должен верить». Ни в чём нет большей уверенности, и ни в чём нельзя найти покоя вечности, кроме как в этом «должен». Но каким бы блаженным оно ни было, «испытание» – тревожная мысль, и именно тревога заставляет вас думать, что проверка – это высшая уверенность; ибо идея проверки сама по себе изобретательна и неисчерпаема, так же как человеческая мудрость никогда не могла учесть все случаи, тогда как серьёзность, наоборот, так превосходно говорит: «Вера учла все случаи». И когда вы должны, то это решено навечно; и когда вы поймёте, что должны любить, тогда ваша любовь обеспечена навечно.
И любовь также благодаря этому «должен» навечно защищена от любых изменений. Ибо любовь, которая просто имеет постоянство, может измениться, она может измениться в самой себе, и она может быть изменена из самой себя.
Непосредственная любовь может измениться сама в себе, она может превратиться в свою противоположность – в ненависть. Ненависть – это любовь, которая стала своей противоположностью, любовь, которая погибла. Глубоко внутри любовь горит постоянно, но пламя – это пламя ненависти; только когда любовь сгорает, только тогда гаснет и пламя ненависти. Как о языке сказано, что «из тех же уст исходит благословение и проклятие»32, так и о любви следует сказать, что одна и та же любовь любит и ненавидит; но именно потому, что это одна и та же любовь, именно поэтому она в вечном смысле не является истинной любовью, которая остаётся прежней и неизменной, тогда как непосредственная любовь, если она и изменяется, по сути остаётся прежней. Истинная любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, никогда не меняется; она едина, она любит – и никогда не ненавидит, никогда не ненавидит – возлюбленного. Может показаться, что непосредственная любовь сильнее, потому что она может делать две вещи, потому что она может и любить, и ненавидеть; может показаться, что у неё совсем другая власть над своим объектом, когда она говорит: «Если ты не будешь любишь меня, я буду ненавидеть тебя» – но это всего лишь иллюзия. Ибо действительно ли изменяемое обладает большей силой, чем неизменное? И кто сильнее – тот, кто говорит: «Если ты не полюбишь меня, то я возненавижу тебя», или тот, кто говорит: «Даже если ты будешь ненавидеть меня, я всё равно буду продолжать любить тебя»? Это, конечно, ужасно и страшно, что любовь превращается в ненависть; но интересно, для кого это действительно ужасно – не для самого ли обидчика, с которым случилось так, что его любовь превратилась в ненависть?
Непосредственная любовь может претерпеть изменение сама в себе; она может самовозгоранием превратиться в ревность, может превратиться из величайшего счастья в величайшее мучение. Так опасен жар этой непосредственной любви, как бы ни было велико её желание, так опасен, что этот жар легко может превратиться в болезнь. Непосредственная любовь подобна брожению, которое называется так именно потому, что оно ещё не претерпело никаких изменений, а значит, ещё не выделило из себя яд, который и даёт высокую температуру брожения. Если любовь воспламеняется этим ядом вместо того, чтобы выделять его, то возникает ревность; увы! само слово говорит об этом33, это болезнь-рвение, или ревность. Ревнивый человек не испытывает ненависти к объекту любви, отнюдь, но он истязает себя огнём ответной любви, который свято должен очистить его любовь. Ревнивый любящий ловит, почти умоляюще, каждый лучик любви от возлюбленного, но сквозь увеличительное стекло своей ревности он фокусирует все эти лучи на своей любви, и он медленно сгорает. Но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, не знает ревности; она любит не только потому, что любят её, но любит сама. Ревность любит потому, что любят её; ревниво мучаясь по поводу того, любима ли она, она ревнует как к своей собственной любви, не окажется ли она несоразмерной равнодушию другого, так ревнует и к выражению любви другого; тревожно озабоченная собой, она не смеет ни полностью поверить любимому, ни полностью отдать себя, чтобы не отдать слишком много, и поэтому постоянно обжигается, как обжигаются о то, что не горячо, – разве что от тревожного прикосновения. Это похоже на самовозгорание. Может показаться, что в непосредственной любви совершенно иной огонь, поскольку он может перерасти в ревность; но, увы, именно этот огонь и вызывает ужас. Может показаться, что ревность удерживает свой объект совершенно иным образом, когда следит за ним сотней глаз34, тогда как у единой любви есть, так сказать, только один глаз для своей любви. Но неужели разделение сильнее единения? Неужели разорванное сердце сильнее полного и неразделённого? Неужели постоянно охватывающая тревога держит свой объект крепче, чем объединённые силы единства? И как эта единая любовь защищена от ревности? Может быть, тем, что она не любит в сравнении? Она не начинает с того, что сразу же начинает любить избирательно, нет, она любит; поэтому она никогда не может прийти к паталогической любви в сравнении – нет, она любит.
Непосредственная любовь может измениться сама в себе, она может измениться с годами, как это часто бывает. Тогда любовь теряет свой пыл, свою радость, своё желание, свою простоту, свежесть своей жизни; как река, вырвавшаяся из скалы, впоследствии ослабляется вялостью стоячей воды, так и любовь ослабляется вялостью и безразличием привычки. Увы, из всех врагов привычка, пожалуй, самый коварный, и прежде всего она коварна тем, что никогда не позволяет себя увидеть, ибо тот, кто увидел привычку, спасся от неё. Привычка не похожа на других врагов, которых человек видит и от которых пытается защититься; на самом деле борьба идёт с самим собой за то, чтобы увидеть её. Есть хищный зверь, известный своим коварством, летучая мышь-вампир, которая украдкой нападает на спящего; высасывая из него кровь, она крыльями обдувает спящего прохладой и делает его сон ещё приятнее. Такова привычка – или даже хуже; ибо этот зверь ищет добычу среди спящих, но у него нет средств, чтобы убаюкать бодрствующего. А вот у привычки есть – она подкрадывается к человеку, усыпляя его, и когда он засыпает, высасывает его кровь, обдувая его прохладой и делая его сон ещё приятнее.
Таким образом, непосредственная любовь может измениться сама в себе и стать неузнаваемой – ибо ненависть и ревность познаются через любовь. А иногда и сам человек замечает, когда сон проплывает мимо и забывается, что привычка изменила ему; тогда он хочет исправиться, но не знает, где можно купить новое масло35, чтобы разжечь любовь. Тогда он впадает в уныние, раздражается, тоскует по самому себе, тоскует по своей любви, тоскует по тому, что она такая, тоскует о том, что он не может её изменить; увы, ибо он вовремя не обратил внимания на изменение вечности, а теперь даже потерял способность переносить исцеление.
О, иногда с печалью видишь человека, который когда-то жил в достатке, а теперь обеднел, и всё же насколько печальнее это изменение, когда видишь, как любовь превращается в нечто почти отвратительное! Если же любовь претерпела изменение вечности, став долгом, то она не знает привычки, тогда привычка никогда не сможет получить над ней власть. И как о вечной жизни говорится, что нет ни плача, ни вопля36, так и мы могли бы добавить, что в ней нет и привычки; и тем самым мы поистине не говорим ничего менее удивительного. Если вы хотите спасти свою душу или свою любовь от коварства привычки – да, люди верят, что есть много способов сохранить себя бодрствующими и в безопасности, но на самом деле есть только один: это «должен» вечности. Пусть грохот сотни пушек трижды в день напоминает вам о необходимости противостоять силе привычки; как тот могущественный император Востока37, держите раба, который ежедневно напоминает вам об этом, держите сотню; имейте друга, который напоминает вам об этом при каждой встрече; имейте жену, которая с любовью напоминает вам об этом с раннего утра и до позднего вечера – но следите, чтобы это не вошло в привычку! Ибо вы можете привыкнуть к грохоту сотни пушек, так что вы можете сидеть за столом и услышать самую незначительную мелочь гораздо отчетливей, чем гром сотни пушек, который вы привыкли слышать. И вы можете привыкнуть к тому, что сотня рабов каждый день напоминает вам об этом, и вы больше не слышите этого, потому что благодаря привычке вы приобрели ухо, которым вы слышите и в то же время не слышите. Нет, только «ты должен» вечности – и слышащее ухо, которое услышит это «ты должен», может спасти тебя от рабства привычки38. Привычка – это самое печальное изменение, и, с другой стороны, к любому изменению можно привыкнуть; только вечное, а значит то, что претерпело изменение вечности, став долгом, является неизменным, а неизменное никогда не становится привычкой. Как бы прочно ни закрепилась привычка, она никогда не становится неизменной, даже если человек станет неисправимым; ибо привычка – это всегда то, что должно изменяться; неизменное, наоборот, это то, что не может и не должно изменяться. Но вечное никогда не стареет и не превращается в привычку.
Только тогда, когда любовь является долгом, только тогда любовь вечно свободна в блаженной независимости.
Но разве эта непосредственная любовь не свободна, разве любящий не обладает свободой в любви? И, с другой стороны, разве целью дискурса является провозглашать безрадостную независимость себялюбия, которая стала независимой потому, что у неё не хватило смелости взять на себя обязательства, то есть потому, что она стала зависимой от своей трусости; безрадостную независимость, которая колеблется, потому что не нашла пристанища, и похожа на «движущееся туда и сюда39, вооруженного разбойника, который устраивается там, где его застаёт вечер»; безрадостная независимость, которая независимо не носит оков – по крайней мере, видимых? О, это далеко не так; наоборот, в предыдущем рассуждении мы напомнили вам, что выражение величайшего богатства состоит в том, чтобы испытывать нужду; и поэтому истинное выражение свободы – это потребность в свободе. Тот, кто испытывает потребность в любви, тот, безусловно, чувствует себя свободным в любви; и именно тот, кто чувствует себя настолько зависимым от любви, что он теряет всё, теряя возлюбленного, именно тот и является независимым. Но при одном условии, что он не путает любовь с обладанием возлюбленным. Если бы кто-то сказал: «Любовь или смерть», тем самым подразумевая, что жизнь без любви не стоит того, чтобы жить, тогда мы бы с ним были абсолютно согласны. Но если под этим он подразумевал обладание возлюбленным, то есть, обладать возлюбленным или умереть, обрести друга или умереть, то мы должны сказать, что такая любовь зависима в ложном смысле. Когда любовь не предъявляет к себе тех же требований, которые она предъявляет к объекту своей любви, хотя она и зависима от этой любви, она зависима в ложном смысле; закон её существования лежит вне её самой, и, следовательно, она зависима в тленном, земном, временном смысле. Но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, любит, потому что должна любить – она независима; она имеет закон своего существования в отношении самой любви к вечности. Эта любовь никогда не может стать зависимой в ложном смысле, ибо единственное, от чего она зависит – это долг, а долг – это единственное освобождение. Непосредственная любовь делает человека в одно мгновение свободным, а в следующее мгновение – зависимым. Это подобно появлению человека на свет; существуя, становясь «я», он становится свободным, но в следующий момент он зависит от этого «я». Долг же, наоборот, делает человека зависимым и в то же время вечно независимым. «Только закон может дать свободу»40. Увы, часто считается, что свобода существует, а закон ограничивает свободу. Однако всё наоборот – без закона свободы вообще не существует, и именно закон даёт свободу. Также считается, что именно закон производит различия, потому что там, где нет закона, нет и различий. Однако всё наоборот – когда закон делает различие, тогда именно закон делает всех равными перед законом.
Таким образом, это «должен» освобождает любовь в блаженной независимости; такая любовь стоит и падает не из-за каких-то случайных обстоятельств своего объекта, она стоит и падает по закону вечности – но тогда она никогда не падает; такая любовь не зависит от того или иного, она зависит только от одной освобождающей силы, поэтому она вечно независима. Ничто не сравнится с этой независимостью. Иногда мир восхваляет гордую независимость, которая считает, что не нуждается в том, чтобы её любили, хотя и считает, что «нуждается в других людях – не для того, чтобы любили её, а для того, чтобы любить их, чтобы было кого любить». О, как же фальшива эта независимость! Она не нуждается в том, чтобы её любили, и всё же ей нужен кто-то, кого можно любить, то есть, ей нужен другой человек – чтобы удовлетворить своё гордое самолюбие. Разве это не похоже на то, когда тщеславие считает, что может обойтись без мира, и всё же нуждается в мире, то есть нуждается в том, чтобы мир увидел, что тщеславие не нуждается в мире! Но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, безусловно, испытывает потребность быть любимой, и эта потребность вместе с этим «должен» поэтому является вечно гармоничным согласием; но она может обойтись без этой любви, если так должно быть, продолжая любить: разве это не независимость? Эта независимость зависит только от самой любви через «должен» вечности; она не зависит ни от чего другого, а значит, не зависит и от объекта любви, как только он оказывается чем-то другим. Однако это не означает, что независимая любовь тогда прекращается, превращаясь в гордое самодовольство; это – зависимость. Нет, любовь пребывает – это независимость. Неизменность – вот истинная независимость; всякое изменение, будь то лишение чувств слабости или высокомерие гордыни, воздыхание или самодовольство – это зависимость. Если один человек, когда другой говорит ему: «Я больше не люблю тебя», – гордо отвечает: «Тогда я тоже перестану любить тебя»– разве это независимость? Увы, это зависимость, ибо от того, будет ли он продолжать любить или нет, зависит, будет ли любить другой. Но тот, кто отвечает: «Тогда я буду продолжать любить тебя», – его любовь вечно свободна в блаженной независимости. Он не говорит это с гордостью – зависимый от своей гордости, нет, он говорит это смиренно, смиряя себя перед «должен» вечности, и именно поэтому он независим.