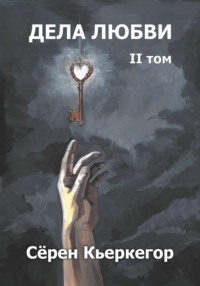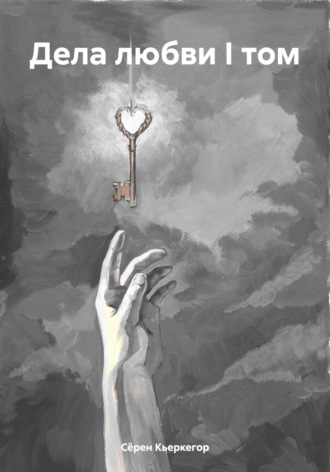
Дела любви I том
Но даже если это и так, что любовь познаётся по плодам, не будем, однако, в нашей любви друг ко другу нетерпеливо, недоверчиво, осуждающе требовать постоянно и непрерывно показывать плоды. Первое, что рассматривалось в этом размышлении – это то, что в любовь надо верить, иначе мы просто не узнаем, что она существует; но теперь разговор возвращается к началу и снова и снова повторяет: верьте в любовь! Это первое и последнее, что следует сказать о любви, когда её нужно познавать; но вначале это было сказано в противовес дерзкому здравому смыслу, отрицающему существование любви; теперь же, напротив, после объяснения её узнавания по плодам, это говорится в противовес болезненной, робкой, суетливой ограниченности, желающей в мелочном и жалком недоверии увидеть плоды. Не забывайте, что это был бы прекрасный, благородный, священный плод, по которому любовь в вашем сердце стала бы узнаваемой, если бы по отношению к другому человеку, чья любовь, возможно, принесла худшие плоды, вы были достаточно любящими, чтобы видеть его любовь прекраснее, чем она есть. Если недоверие действительно может видеть меньше, чем оно есть, то любовь может видеть больше, чем оно есть.
Не забывайте, что даже когда вы радуетесь плодам любви, когда вы узнаёте по ним, что любовь живёт в другом человеке, не забывайте, что ещё более благословенно – верить в любовь. В том и состоит новое выражение глубины любви – что, научившись познавать её по плодам, вы вновь возвращаетесь к началу, и возвращаетесь к нему как к высшему – к вере в любовь. Ибо хотя жизнь любви действительно познаётся по плодам, которые её являют, но сама жизнь всё же больше, чем отдельный плод, и больше, чем все её плоды вместе взятые, если их можно было бы пересчитать в любой момент. Поэтому последний, самый благословенный, безусловно убедительный признак любви – это сама любовь, которая познаётся и узнаётся любовью в другом. Подобное познается только подобным; только тот, кто пребывает в любви, может познать любовь так, как и его любовь может быть познана.
II
A. ВЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ
«Но вторая заповедь подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». (Матфея 22:29).
Любая речь, особенно её фрагмент, обычно предполагает нечто, из чего она исходит. Поэтому тому, кто желает принять эту речь или утверждение к рассмотрению, должен сначала найти эту предпосылку, а затем уже отталкиваться от неё. Так и в прочитанном нами тексте содержится предпосылка, которая, хотя и стоит на последнем месте, тем не менее является началом. Ведь когда говорится: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», то в этом содержится предпосылка, что каждый человек любит самого себя. Это христианская предпосылка, поскольку христианство, в отличие от этих честолюбивых мыслителей12, никогда не начинает без предпосылки или с лестной предпосылки.
Разве осмелимся мы отрицать, что христианство предполагает именно это? Но, с другой стороны, разве может ли кто-нибудь так превратно понять христианство, чтобы считать, будто его цель —учить тому, чему единодушно – увы, и всё же разделяя – учит мирская мудрость, что «каждый ближе всего к самому себе»? Разве может кто-нибудь превратно понять это так, будто цель христианства – утверждать себялюбие? Напротив, его цель – лишить нас эгоизма. Ведь этот эгоизм заключается в любви к себе; но если человек должен любить ближнего своего, «как самого себя», тогда заповедь, как отмычкой, срывает замок самолюбия, и тем самым вырывает его у человека. Если бы заповедь о любви к ближнему выражалась как-то иначе, чем этой маленькой фразой: «как самого себя», которая одновременно так проста в употреблении и в то же время обладает напряжением вечности, то заповедь не смогла бы справиться с любовью к себе. Это «как самого себя» не колеблется в своей цели, и с неумолимой строгостью вечности проникает в самые сокровенные тайники, где человек любит себя; оно не оставляет эгоизму ни малейшего оправдания, ни малейшей отговорки. Как странно! Можно вести длинные и содержательные речи о том, как человек должен любить своего ближнего; и после того, как все речи были услышаны, любовь к себе всё равно будет находить себе оправдания и отговорки, потому что тема полностью не исчерпана, все случаи не рассмотрены, потому что всегда что-то забыто, что-то недостаточно чётко и связно выражено и описано.
Но это «как самого себя»! Конечно, ни один борец не может так крепко зажать своего противника, как эта заповедь сжимает эгоизм, который не может сдвинуться с места.
Поистине, когда эгоизм вступает в борьбу с этим словом, которое, однако, так легко понять, что никому не нужно ломать над этим голову, тогда он поймёт, что вступил в борьбу с более сильным. Как Иаков хромал после того, как боролся с Богом13, так должен быть сломлен и эгоизм, если он будет бороться с этим словом, которое не желает научить человека не любить себя, а, напротив, желает научить его истинной любви к себе. Как странно! Какая борьба столь продолжительна, столь ужасна, столь сложна, как борьба эгоизма в свою защиту? И однако христианство всё решает одним ударом. Всё происходит быстро, как по мановению руки, всё решается, как вечное решение воскресения, «вдруг, во мгновение ока»14: христианство предполагает, что человек любит себя, и лишь добавляет к этому слово о любви к ближнему – «как к самому себе». И всё же между первым и последним – вечное различие.
Но действительно ли это высшая форма любви? Разве нельзя любить человека больше, чем самого себя? Ведь речь восторженного поэта слышна во всём мире. Так может быть, тогда христианство не смогло взлететь так высоко, так что оно, вероятно ещё и в силу того, что обращается к простым, обычным людям, так и застряло в требовании любить ближнего «как самого себя»? Может быть, и потому, что вместо воспеваемого поэтами объекта высокопарной любви – «возлюбленного», «друга», оно ставит такого весьма непоэтичного «ближнего»? Ибо любовь к ближнему, конечно, не воспета ни одним поэтом, как и любовь к нему «как к самому себе». Может быть, так и должно быть? Или же, делая уступку воспеваемой поэтом любви по сравнению с заповеданной любовью, мы должны смиренно превозносить христианское благоразумие и понимание жизни, потому что оно более трезво и более твёрдо стоит на земле, возможно, в том же смысле, что и в пословице: «Люби меня меньше, но люби меня дольше»?
Вовсе нет! Христианство лучше любого поэта знает, что такое любовь и что такое любить. И поэтому оно знает и то, что, возможно, ускользает от внимания поэтов, что воспеваемая ими любовь – это скрытая любовь к себе, и именно этим можно объяснить её опьяняющее выражение – любить другого человека больше, чем самого себя. Земная любовь – это ещё не вечная любовь, это прекрасное головокружение бесконечности, её высшее проявление – таинственное безрассудство. Поэтому она пробует себя в ещё более головокружительном выражении: «любить человека больше, чем Бога». И это безрассудство безмерно радует поэта, оно услаждает его слух, оно вдохновляет его на песню. Увы, христианство учит, что это богохульство. И то, что верно в отношении любви, верно и в отношении дружбы, поскольку она тоже основана на любви: любить одного человека больше всех, любить его в отличие от всех. Объект и любви, и дружбы поэтому также носит имя этой пристрастности: «возлюбленный», «друг», которого любят в противоположность всему миру. Напротив, христианское учение состоит в том, чтобы любить ближнего, любить весь род, всех людей, даже врагов, и не делать никаких исключений ни из пристрастности, ни из неприязни.
Есть только Один, Кого человек с истиной вечности может любить больше, чем самого себя – это Бог. Поэтому не говорится: «Возлюби Бога, как самого себя», но: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим»15. Человек должен любить Бога в безусловном послушании и любить Его с благоговением. Если кто-либо осмеливается любить себя таким образом, или любить другого человека таким образом, или позволить другому человеку любить себя таким образом, то это богохульство. Если ваш возлюбленный или друг попросил вас о чём-то, а вы, искренне любя его, беспокоитесь, что это навредит ему, то на вас лежит ответственность, если вы будете любить, уступив его желанию, а не любить, отказывая ему в этом. Но Бога вы должны любить в безусловном послушании, даже если то, что Он требует от вас, может показаться вредным для вас самих, и даже вредным для Его дела. Ибо Божья мудрость несравнима с вашей, и Божье руководство не обязано нести ответственность за вашу мудрость. Вы должны только с любовью повиноваться. Человека же вы должны только – хотя нет, потому что это высшее – человека вы должны любить, как самого себя; если вы можете реализовать его интересы лучше, чем он сам, тогда вы не сможете оправдаться тем, что вредное было его собственным желанием, было тем, чего он сам просил. Если бы это было не так, то можно было бы с полным правом говорить о том, что нужно любить другого человека больше, чем себя; ибо такая любовь заключалась бы в том, что, несмотря на собственное убеждение, что это вредит ему, с послушанием делать это, потому что он этого попросил, или с благоговением, потому что он этого пожелал. Но этого делать нельзя; вы несёте ответственность, если поступаете так, так же, как и другой несёт ответственность за злоупотребление своими отношениями с вами.
Поэтому – «как самого себя». Если бы самый хитрый обманщик, который когда-либо жил (или мы можем придумать ещё более хитрого, чем тот, кто когда-либо жил) заставил закон использовать много слов и стать многословным, ибо тогда обманщик быстро одержал бы победу, продолжая из года в год «искушая»16 спрашивать «царский закон»17: «Как мне любить своего ближнего?» – тогда немногословная заповедь неизменно будет повторять краткое: «как самого себя». И если какой-то обманщик всю свою жизнь обманывал себя всевозможными метаниями в этом вопросе – то вечность лишь обличит его краткими словами заповеди: «как самого себя». Поистине, никто не сможет уклониться от заповеди; если её «как самого себя» в жизни предельно близко к самолюбию, опять же «ближний» – это понятие, которое предельно опасно для самолюбия. Самолюбие само понимает, что от всего этого невозможно уклониться. Единственный выход – тот, что в своё время попытался сделать фарисей, чтобы оправдать себя: поставить под сомнение, кто его ближний – чтобы вычеркнуть его из жизни.
Кто же такой ближний? Слово, очевидно, образовано от «ближайший», поэтому ближний – это тот, кто ближе к вам, чем все остальные, хотя и не в смысле предпочтения; ибо любить того, кто в смысле предпочтения ближе к вам, чем все остальные – это любовь к себе – «Не так же ли поступают и язычники?»18 Итак, ближний ближе к вам, чем все остальные. Но разве он ближе к вам, чем вы сами? Нет, не ближе; но он находится или должен находиться так же близко к вам. Понятие «ближний» на самом деле – удвоение вашего собственного «я»; «ближний» – это то, что философы назвали бы «другим», критерий для проверки того, что является эгоистичным в любви к себе. Ведь для того, чтобы мыслить, даже не обязательно, чтобы ближний существовал. Если бы человек жил на необитаемом острове, если бы он привёл свой разум в соответствие с заповедью, то можно было бы сказать, что, отказавшись от любви к себе, он любит ближнего.
Понятие «ближний» само по себе является множеством, ибо «ближний» означает «все люди», и всё же в другом смысле достаточно одного человека, чтобы исполнить заповедь. Чтобы любить самого себя, не нужно двоих; эгоизму достаточно одного. Не нужно и троих, потому что если есть двое, то есть, если есть хотя бы ещё один человек, которого в христианском смысле вы любите «как самого себя» или в котором вы любите «ближнего», тогда вы любите всех людей. Но чего эгоизм совершенно не переносит, так это удвоения, а слова заповеди «как самого себя» – это именно удвоение. Пылающий любовью никогда не сможет из-за этого или в силу этого горения вынести удвоение, которое здесь означало бы отказ от любви, если бы этого потребовал возлюбленный. Следовательно, любящий не любит возлюбленного «как самого себя», ибо он требует, но это «как самого себя» как раз содержит требование к нему – увы, и при этом любящий даже думает, что любит другого человека больше, чем себя.
Поэтому «ближний» – это любовь к себе, настолько близкая в жизни, насколько это возможно. Если людей только двое, то другой человек – ближний; если их миллионы, то каждый из них – ближний, который опять же ближе к человеку, чем «друг» и «возлюбленный», поскольку они как объекты приоритетной любви, постепенно становятся похожими на себялюбие. Мы обычно признаём, что ближний существует и так близок человеку, когда считаем, что имеем не него права и мы можем что-то от него требовать. Если кто-то в этом смысле спросит: кто мой ближний? – тогда ответ Христа фарисею будет ответом только в своеобразном смысле, ибо в ответе вопрос сначала превращается в свою противоположность, тем самым указывая, как человек должен спрашивать. Рассказав притчу о добром самарянине, Христос говорит фарисеям: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»19 И фарисеи отвечают «правильно» – «оказавший ему милость». То есть, осознавая свой долг, вы легко узнаете, кто ваш ближний. Ответ фарисеев содержится в вопросе Христа, который по своей форме вынудил фарисея ответить так, как он ответил. Человек, перед которым у меня есть долг – мой ближний, и когда я исполняю свой долг, я показываю, что я – его ближний. Христос говорит не о том, чтобы знать ближнего, а о том, чтобы самому стать ближним, доказать, что вы ближний, как доказал это самарянин своим милосердием. Ибо он доказал не то, что пострадавший был его ближним, но что он был ближним пострадавшему. Левит и священник в определённом смысле были ближними пострадавшему, но они не признавали этого; самарянин же, который из-за предрассудков мог неправильно понять, всё же правильно понял, что он был ближним человеку, попавшемуся разбойникам. Выбрать возлюбленного, найти друга – это действительно очень трудно, но ближнего легко узнать, легко найти, стоит только … признать свой долг.
Заповедь гласит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», но при правильном понимании в ней говорится и обратное: «Возлюби самого себя в правильном смысле». Если человек не научится у христианства правильно любить себя, он не сможет любить и своего ближнего; он может, как говорится, «в жизни и в смерти» – привязаться к одному или нескольким людям, но это отнюдь не любовь к ближнему. Правильно любить себя и любить ближнего – это совершенно одинаковые понятия, по сути, это одно и то же. Когда заповедь «как самого себя» лишает вас эгоизма, который, к сожалению, христианство предполагает в каждом человеке, то вы научились любить себя правильно. Таким образом, закон гласит: «Возлюби себя, как ближнего своего, если любишь его как самого себя». Тот, кто хоть немного разбирается в людях, безусловно, признаёт, что как часто ему хотелось заставить людей отказаться от любви к себе, так же часто ему хотелось научить их любить себя. Когда занятой человек тратит своё время и силы на пустые и неважные дела, не потому ли, что он не научился любить себя правильно? Когда легкомысленный человек отдаётся почти за бесценок безрассудству момента, не потому ли, что он не понимает, как любить себя правильно?
Когда удручённый человек желает покончить с жизнью, даже с самим собой, не потому ли, что он не желает научиться строго и серьёзно любить себя? Когда человек из-за того, что мир или другой человек вероломно предали его, впадает в отчаяние, в чём же его вина (ибо здесь мы не говорим о невинном страдании), если не в том, что он не любил себя должным образом? Когда человек, мучая себя, думает, что своим мучением служит Богу, в чём же его грех, если не в том, что он не желает любить себя правильно? Увы, и когда человек самонадеянно накладывает на себя руки, не в том ли его грех, что он не любит себя так, как человек должен любить себя? О, в мире так много говорится о предательстве и неверности, и, о, Боже! это, к сожалению, сущая правда, но давайте никогда не забывать, что самый опасный предатель – это тот, которого каждый человек имеет в самом себе. Это предательство, состоит ли оно в том, что человек эгоистично любит себя, или в том, что он эгоистично не желает любить себя как должно – это предательство, безусловно, является тайной, потому что о нём не кричат, как это обычно бывает в случаях предательства и неверия. Но не потому ли тем более важно вновь и вновь напоминать учение христианства: человек должен любить своего ближнего, как самого себя, то есть так, как он должен любить самого себя?
В заповеди о любви к ближнему одним и тем же словом «как самого себя» говорится и об этой любви, и о любви к себе – и теперь введение к этому рассуждению останавливается на том, что же оно желает сделать предметом рассмотрения. Ибо то, благодаря чему заповедь о любви к ближнему и о любви к себе становится единой – это не только это «как самого себя», но ещё в большей степени слово «вы должны». Именно об этом мы и хотим поговорить:
ВЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ
Ибо в том и состоит христианская любовь, и в том её особенность, что она содержит в себе это кажущееся противоречие: любить – это долг.
Вы должны любить, таково слово «царского закона». И, воистину, мой слушатель, если бы вы смогли составить представление о состоянии мира до того, как были произнесены эти слова, или если вы попытались бы понять самих себя и рассмотреть жизнь и состояние души тех, кто, хотя и называют себя христианами, на самом деле живут в понятиях язычества: тогда с удивлением веры вы смиренно признали бы, что это христианское слово, как и всё христианское, не возникло ни в одном человеческом сердце. Но теперь, когда оно заповедано на протяжении восемнадцати веков христианства, а до этого в иудаизме; теперь, когда каждый был воспитан в нём, и с духовной точки зрения подобен тому, как ребёнок, воспитанный в доме богатых родителей, совершенно забывает, что хлеб насущный – это дар; теперь, когда христианство многократно отвергалось теми, кто в нём воспитан, потому что они предпочитали всевозможные новинки, подобно тому, как человек, который никогда не был голоден, отказывается от здоровой пищи в пользу сладостей; теперь, когда христианство повсюду предполагается, предполагается как известное, как данное, как подразумеваемое – для того, чтобы идти дальше; теперь, конечно, все о нём говорят как о само собой разумеющемся; и всё же, увы, как редко об этом задумываются, как редко христианин серьёзно и с благодарным сердцем задумывается о том, что было бы, если бы христианство не вошло в мир! Какая нужна смелость, чтобы впервые сказать: «Вы должны любить», или скорее, какая нужна божественная власть, чтобы одним словом перевернуть с ног на голову представления и понятия естественного человека! Ибо там, на границе, где человеческий язык замолкает и иссякает смелость, там с божественным началом прорывается откровение и возвещает то, что нетрудно понять в смысле глубины понимания или человеческого сравнения, но то, что не зародилось ни в одном человеческом сердце. На самом деле это не так уж трудно понять, когда об этом говорится, но оно должно пониматься только для того, чтобы применять на практике; но оно не зарождается ни в одном человеческом сердце.
Возьмем язычника, который не испорчен бездумным заучиванием наизусть христианских заповедей, не испорчен воображением, что он христианин – и эта заповедь «Вы должны любить» не только удивит его, но и огорчит, возмутит. Именно поэтому здесь снова применима заповедь любви, которая является христианским признанием того, что «всё новое»20. Заповедь не является ни чем-то новым в случайном смысле, ни чем-то новым в понимании любопытства, ни чем-то новым во временном существовании. Любовь существовала и в язычестве, но понятие о том, что любовь – это долг – это нововведение вечности – и всё стало новым. Какая разница между игрой порывов и чувств, склонностей и страстей, короче говоря, этой игрой сил непосредственности, этой славой, воспеваемой в поэзии в улыбках или в слезах, в желании или в тоске; какая разница между этим и вечностью, серьёзностью заповеди в духе и истине, в искренности и самоотречении!
Но человеческая неблагодарность! О, какая же у неё короткая память! Поскольку высшее предлагается каждому, человек воспринимает его как ничто, ничего в нём не видит, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему оценить его драгоценную природу, как будто высшее что-то потеряло из-за того, что все имеют или могут иметь одно и то же. Если в семье есть какое-то драгоценное сокровище, связанное с определённым событием, то из поколения в поколение родители рассказывают об этом своим детям, а их дети, в свою очередь, рассказывают своим детям, что было. Но поскольку христианство на протяжении стольких веков было достоянием всего народа, должны ли тогда прекратиться все разговоры о том, какие изменения вечности произошли в мире с приходом христианства? Разве не обязано каждое поколение21, каким бы близким оно ни было, в равной степени осознавать это? Разве эти изменения стали менее значительными из-за того, что они произошли восемнадцать веков назад? Стало ли теперь менее удивительным, что Бог есть, ведь на протяжении нескольких тысячелетий жили поколения людей, которые верили в Него? Стало ли это менее удивительным для меня, если я верю в это? И разве для того, кто живёт в наше время, восемнадцать веков спустя, менее удивительно, что он стал христианином, потому что прошло восемнадцать столетий с тех пор, как христианство пришло в мир? И если это было не так давно, то он непременно должен вспомнить, каким он был до того, как стал христианином, и поэтому знать, какое изменение произошло в нём, если в нём произошло изменение, когда он стал христианином. Так что не нужны всемирно-исторические описания язычества, будто со времени его падения прошло восемнадцать столетий; ибо не так уж и давно и вы, мой читатель, и я, были язычниками, да, были язычниками, – если только мы стали христианами.
Ибо это, несомненно, самый печальный и самый нечестивый вид обмана – из-за беспечности обманываться в высшем, которым, как кажется, вы обладаете, и однако, увы, не обладаете. Ибо что такое высшее обладание, что такое обладание всем, если я никогда не получаю правильного представления о том, что я этим обладаю, и о том, чем именно я обладаю? Потому что, по Писанию, имеющий мирские блага, должен быть как не имеющий22, думаете ли вы, что это правильно и по отношению к высшему: иметь его и всё же быть как тот, кто не имеет? Интересно, правильно ли это; но нет, давайте не будем обманываться вопросом, будто можно обладать высшим таким образом, но давайте поймём, что это невозможно. Земные блага не имеют значения, и поэтому Священное Писание учит, что, обладая ими, следует обладать ими как чем-то незначительным; но высшим благом человек не может и не должен обладать как чем-то незначительным. Земные блага во внешнем смысле являются реальностью, поэтому человек может иметь их, не имея; но духовные блага существуют только внутренне, существуют только тогда, когда ими обладают, и поэтому человек не может, если он действительно имеет их, быть, как неимеющий; напротив, если он таков, то он просто их не имеет. Если кто-то думает, что у него есть вера, и при этом безразличен к этому обладанию, ни холоден, ни горяч23, тогда он может быть уверен, что у него нет веры. Если кто-то думает, что он христианин, и при этом безразличен к тому, что он христианин, то на самом деле он не христианин. Или что бы мы подумали о человеке, который уверял бы нас, что влюблён, но, однако, был безразличен к этому?
Поэтому как теперь, так и в любое другое время, говоря о христианстве, не будем забывать о его происхождении, то есть о том, что и не приходило на сердце человеку24; не будем забывать говорить об этом наряду с происхождением веры, которая всегда, присутствуя в человеке, верит не потому, что верили другие, но потому что и этот человек был охвачен тем, что охватило бесчисленное множество до него, но от этого не менее оригинальным. Ибо инструмент, используемый ремесленником, с годами тупится; пружина теряет свою упругость и ослабляется; но то, что обладает упругостью вечности, сохраняет её во все времена совершенно неизменным. Когда динамометр используется долгое время, то в конце концов даже слабый может пройти испытание; но динамометр вечности, на котором каждый человек должен быть проверен на то, есть ли у него вера или нет, остаётся неизменным на все времена.
Когда Христос сказал: «Остерегайтесь людей»25, не подразумевается ли под этим и следующее: «Остерегайтесь, чтобы из-за людей, то есть из-за постоянного сравнения с другими людьми, из-за привычек и внешних обстоятельств, вы позволили обмануть себя в отношении высшего». Ибо хитрость обманщика не так опасна, к тому же её легче распознать; но обладать высшим в некоем равнодушном сообществе, в лености привычки, причём в лености привычки, которая желает поставить народ вместо индивидуума, желает сделать народ получателем, а индивидуума – причастным в силу его принадлежности к народу – вот что поистине ужасно. Конечно, высшее не должно быть просто приобретением; вы не должны иметь его для себя в эгоистичном смысле, ибо то, что вы имеете только для себя, никогда не является высшим; но даже если в самом глубоком смысле вы обладаете высшим вместе со всеми (и это именно высшее, что вы можете обладать им вместе со всеми), вы всё равно должны обладать им для себя так, чтобы вы сохраняли его не только тогда, когда оно есть у всех, но сохраняли его даже тогда, когда все откажутся от него. Остерегайтесь людей и в этом отношении, «будьте мудры, как змии»26 – чтобы сохранить тайну веры в себе, даже если вы надеетесь, желаете и трудитесь для того, чтобы все в этом отношении поступали так же, как и вы. «Будьте просты, как голуби», ибо вера – это именно эта простота. Вы не должны использовать свою мудрость для превращения веры во что-то другое, но вы должны использовать мудрость, чтобы мудро по отношению к людям оберегать тайну веры в себе, охраняя себя от людей. Разве пароль, когда все его знают, не является секретом, если он доверяется всем и хранится всеми в секрете? Однако секретный пароль сегодня – один, а завтра – совсем другой, но суть веры в том, что она – тайна, она – для отдельного человека; и если каждый человек не хранит её в тайне, даже когда он исповедует её, значит, у него нет веры. Может быть, это недостаток веры, что она есть, остаётся и должна оставаться тайной? Не так ли обстоит дело и с любовью, или это лишь одно из тех мимолётных чувств, которые сразу же проявляются и тут же исчезают, тогда как глубокое впечатление всегда сохраняет тайну, так что мы даже можем сказать, и вполне справедливо, что любовь, которая не делает человека скрытным, на самом деле не является любовью.