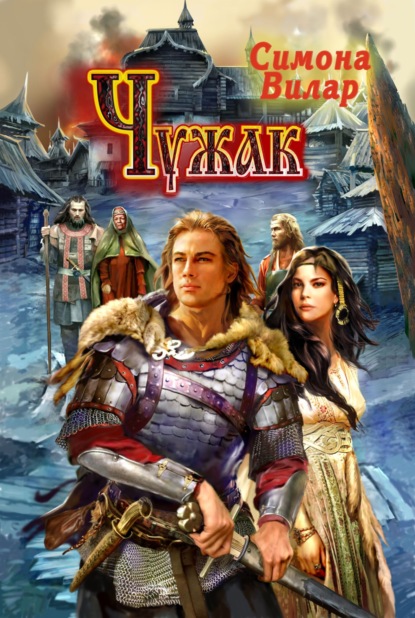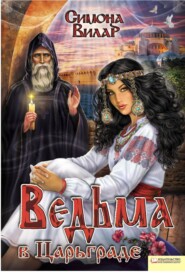По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чужак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В эту ночь мороз выдался как никогда лютым. И когда староста селища терпеев[18 - Терпеи – одно из небольших славянских племен.] Збуд приоткрыл двери избы, холодный пар так и заструился у его ног.
– Не желает Морена-Зима размыкать землю к весне, – хмуро проворчал староста.
– Так, может, и не следует мне идти? – заискивающе спросила Збуда его молодая жена.
– Не гневи богов, Ясенка, – стукнув дверью, возмутился Збуд. – Ты моя женщина, ты старостина жена, тебе начинать изгонять Коровью Смерть[19 - Коровья Смерть – по поверьям, злобный дух, вызывающий падеж скота.], пример показывать.
Ясенка недовольно закусила губу. Идти на такой мороз голой, бегать по снегу… Она недобро покосилась на сидевшую на лавке у стены темноволосую девушку.
– А она как же? Ей пошто не велел идти?
– Цыц, я сказал! – рассердился Збуд. – Отвяжись от Карины, Ясенка. Сама знаешь, тяжелая она, княжьего сына носит. Его сберечь надобно.
– Всегда так, – надулась Ясенка. – Мне на мороз, а ей… Ишь, ходит с косой, словно не вдовствует, все из себя девку корчит. Вот теперь в тепле отсиживаться будет, пока мы… Одно слово – Карина! – И добавила злобно: – Укора!..
Черноволосая девушка никак не отреагировала. Ее звали Кариной, но когда злились – Укорой, Карой. Имя такое недоброе ей дали с рождения, после того как мать ее, промучившись в тяжелых родах почти трое суток, родила наконец дочь, а сама умерла, истекая кровью. Бабы-повитухи говорили, что редко когда женщина такие муки в родах принимает. Вот и назвали новорожденную Карой – Кариной. И она сжилась с этим именем. Но всякий раз, когда ее называли Укорой, внутренне сжималась.
Ясенка не зря на нее злилась. Одной красивой бабе всегда завидно, когда рядом жалеют другую красавицу. А к Карине относились бережно. Она для Збуда была всего лишь нестера, дочь сестры, а вырастил он ее как свою. У него-то одни сынки рождались, вот и баловал единственную девчонку в доме, лелеял, подарками засыпал.
Когда Карине было семь годков, ее хотели принести в жертву Велесу. Жрецы-волхвы сразу углядели в толпе удивительно красивую девочку, указали на нее. Но Збуд не отдал им сестрину дочь, поведав, что, когда Боян в селище захаживает, никогда не обходит Карину вниманием. А ведь ведомо – Боян певец редкостный, любимец Велеса. Кто разгневает Бояна – самого Велеса оскорбит. Поэтому волхвы и отступили. Когда же Карине тринадцать исполнилось, опять ее выделили среди других. На этот раз сам князь радимичей Боригор. Терпеи на его землях жили, обязаны были содержать дружину княжью. Вот в один из его наездов и заприметил Боригор в хороводе среди девок красавицу необычную: с глазами прозрачно серыми, ресницами лучистыми, толстой черной косой, телом еще полудетским, но легким, приятным. Тринадцать для девушки – чем не невеста? Вот Боригор и оказал терпеям честь, решив взять к себе меньшицей[20 - Меньшица – во времена многоженства младшая жена.] юную терпейку из Мокошиной Пяди. Однако Карина оказалась из недоспелок, не стала женщиной к тринадцати. Когда Боригору сообщили об этом, думали, откажется. Однако князь все равно глаз с нежного личика Карины отвести не мог, а уезжая, подозвал к себе вуя[21 - Вуй – дядя по матери.] девочки, Збуда, и передал ему вено[22 - Вено – свадебный дар-выкуп за невесту.], а невесте богатый подарок – монисто в три ряда, все сплошь из серебряных дирхемов[23 - Дирхем – арабские серебряные монеты; во времена, когда славяне не чеканили своей монеты, дирхемы использовались и как деньги, и как украшение.] новеньких. Велел, чтобы Карина носила его как знак, что она уже князю радимичей обещана.
Так и проходила Карина в серебряном монисте три года. Боригор же не показывался, даже гонцов не слал – узнать, как подрастает его избранница. Но на то причина была: весть о том, что Боригор самому Диру Киевскому отпор дает, даже в Мокошину Пядь дошла. Но над Кариной все равно посмеивались – дескать, теперь их первая красавица всю жизнь вековухой проходит – и не жена князю, и не вдовица. Но разговоры смолкли, когда Боригор все же приехал в Мокошину Пядь. Глядел на подросшую красавицу, слова молвить в восхищении не мог. А она подняла очи на его обезображенное шрамами лицо, на седую бороду, мешки под глазами… Ах, лучше бы и век не являлся за ней князь Боригор Радимичский! Горько было молодость и красу ему отдавать, когда за ней молодые и пригожие парни словно ручные ходили, в глаза заглядывали. Но вено было уже уплачено, да и щедро одарил князь терпеев за то, что сберегли для него красавицу: три воза с зерном передал селищу, сукно, руду для кузниц. И Карину отдали князю. Начались два года ее постылого супружества. Однако сейчас ей все чаще казалось, что не так уж и плохо жилось ей за старым Боригором.
По ногам в избе вновь потянуло холодом. Это Збуд опять приоткрыл дверь, вглядывался в морозные звезды, определяя время.
– Пора, – сказал наконец. – Иди, Ясенка. Тебе ход начинать.
Карина снова ощутила на себе недовольный взгляд молодой жены вуя. Но мужу перечить та не посмела, поднялась, резко сорвала с головы кику[24 - Кика – головной убор замужних женщин], тряхнула рыжими косами.
– Прими, Ясенка, – протянула ей Карина горшочек с растопленным салом.
На дворе мороз лютый, а Ясенке голой бегать по холоду до первой зорьки, гнать прочь из Мокошиной Пяди Коровью Смерть. Хотя говорят, что бабы в охоте за Коровьей Смертью в такой раж входят, что и холода не чуют. И все же Ясенке поостеречься не мешало – молодая еще, не рожавшая.
Однако Ясенка не раздобрилась от внимания мужниной нестеры.
– Что, услужить пытаешься, вину чуешь? Всем ведомо, что Кара кого угодно сведет со свету, а сама дальше пойдет, подола не замочив, глаз бесстыжих не…
– Да уймись ты, баба глупая! – вконец рассердился Збуд.
Карина же гнева-обиды не выказывала. Просто смотрела огромными глазами цвета дождевых облаков. Люди говорили – взгляд у нее подлинно княжеский, да и манера горделиво держать голову знатная. Такая, что даже строптивая Ясенка не выдержала, отступила, только пробурчала что-то обиженно. Мол, все против нее: и Укора, и муж родимый, и пасынки, что только гоготали, сидя на полатях да ожидая, когда молодая мачеха на гон пойдет. Ясенка вдруг ощутила злость, да такую, что и бодрящий напиток пить не надо. Что ж, если им так весело, то уж и она повеселится. И быстро, прямо на глазах у мужа и пасынков стала раздеваться, скинула телогрею, резким движением подняла подол рубахи, сняла через голову.
Сыновья Збуда, перестав ржать, открыли рты. Даже маленький Буська, уже дремавший, привстал. А старшие… Они уже в возраст вошли, Каплюша вон сам в ночь на Купалу девок по кустам валял. А тут молодая мачеха вся перед ним, ладная, с круглыми большими грудями, крепким животом нерожавшей молодухи, рыжим пушком промеж крутых молочных бедер.
– Постыдилась бы! – опешил Збуд. – В закуте бы разделась.
– Пошто в закуте? – победно улыбнулась Ясенка. – А бесстыжим своим скажи, чтоб не пялились.
Сама будто и не замечала, как парни на нее смотрят. Стоя у очажного огня, медленно, сладострастно растирала по телу жир, улыбалась чему-то своему.
Староста строго велел сынам лезть на полати, задернул за ними занавеску. Ругаясь сквозь зубы, протянул Ясенке опьяняющий, заговоренный ведунами напиток для гона Коровьей Смерти. Едва та выпила, толкнул к двери.
– Пошла!
Морозная дымка так и объяла ее белое тело. Взяв заранее приготовленный отточенный серп, она шагнула в ночную темень – легкая, голая, сально блестящая – и заголосила, завыла люто, как и положено. И, как ожидалось, захлопали то там, то здесь двери изб, раздались отовсюду оглашенные бабьи визги, крики.
Коровий гон – изгнание мора, что на скотину напал и губит кормилиц домашних. Его только бабы и могут изгнать – традиция старая, но верная. Бегут голые бабы вокруг селища, тянут на лямках плуг, опахивая все дома, и голосят при этом, стонут, воют дико. Злость и ярость показывают хозяйки Коровьей Смерти. Не выдерживает «скотья лихоманка» такого. Либо издохнет прямо в селище, либо укроется, убежит прочь. Только бы бабы ее как следует донять сумели. Потому и поят их зельем особым, потому и носятся по снегу голые и распатланные, с серпами, ножами, тяжелыми сковородами, голосят. Все бегут – и девки, и бабы, и молодицы. Лишь непраздных[25 - Непраздна – то есть беременная, носящая ребенка.] на дело это не пускают – чтобы дитю охота ночная не повредила.
Карина слышала дикий вой женщин за стенами. Мужики же сидят по домам, не смея нос наружу высунуть. Нельзя на баб в это время глядеть, иначе от ворожбы никакой силы не будет. Но случалось, что Коровья Смерть сама навстречу бабам идет, словно притянутая, – то путником прикинется заплутавшим, то глупым дитем, вылезшим за мамкой в ночь. Тут у женщин жалости нет, обману не поддадутся – вмиг разорвут, раскромсают. Однажды Коровья Смерть в деда-бортника, одиноко жившего на окраине селища, вошла. Вот он, духом злым наполненный, и вышел бабам навстречу. И ничего от него не осталось. Растерзали, разбросали бортника так, что только куски мяса по округе валялись. Правда, кое-кто говаривал, что старика просто болезнь своя доняла. Один он жил, да и помогать ему уже селище устало. Вот и решил бортник принять в себя Коровью Смерть, выйти навстречу бабам бешеным. Да только зря старался старик. Не вошла в него Коровья Смерть, почуяла подвох, обозлилась, и скотины-кормилицы в ту зиму пало больше, чем когда-либо. Это было в тот год, когда Боригор Карину забирал, вот его подношение Мокошиной Пяди и спасло людей. Долго потом поминали его добрым словом. Да и Карину благословляли. Но это было давно. Ныне же Боригор славный уже селищу не подмога. Его свои же – радимичи – в жертву богам отдали.
Дикие голоса женщин раздались совсем рядом. Выли злобно, орали, били железными серпами о котлы, сковороды, скребли ножами по днищам. Во дворах заливались лаем псы, рвались на привязи от всеобщего бешенства. Карина не выдержала, зажала уши ладонями. Тяжело, самой завыть хочется. Лучше отвлечься, думать о чем-то другом… О чем угодно. Вспоминать…
И, сжавшись в комочек, она унеслась мыслями в прошлое. Вспомнила терем в граде Елани у истоков Десны, где жила княгиней Боригора, вспомнила окошки слюдяные, резьбу по балкам, ложе с перинами лебяжьего пуха, яркую роспись на стене, запахи чистоты и богатства. Ах, как не хватало сейчас ей всего этого! А ведь и здесь она жила в лучшей избе, старостиной. Но теперь-то все по-иному ей виделось: замечала и дым, и копоть, и стылость земляных полов, и то, что жили все скопом, не было уголка укромного, горенки какой незатейливой, где уединиться можно. А еще ей вспомнились разъезды с Боригором, когда брал ее князь с собой на все торжища и погосты, из града в град возил, в ловах на зверя потешиться брал. Мир простой девушки из терпеев вдруг сразу расширился, стал большим, людным, интересным. Тогда уже нелепым казалось, что можно прожить весь свой век, не уходя от родного порога. Карина даже жалеть начала вуя своего любимого, который, кроме как в окрестных от Мокошиной Пяди селах, нигде не бывал. Все твердил, что человек своим местом силен. Ах, знал бы он, как интересен мир, как хочется ко всему приложить руки… Но прав оказался именно Збуд. И когда приключилась с ней беда, кинулась Карина не куда-нибудь, а в Мокошину Пядь, под защиту старосты-родича. И он не обидел кровную племянницу, обогрел у дымной каменки[26 - Каменка – небольшая, сложенная из камня печь.], дал кров. Но все равно Карина не обрела здесь покоя, тоскливо ей было. Даже дитя, что жило в ней, не радовало, обузой навязанной казалось.
Тут на плечо Карины легла тяжелая рука Збуда, и она вздрогнула, оторвавшись от воспоминаний. Лицо же дядьки было напряженным. Он хмурился, прислушиваясь.
– Что это? Слышишь?
Голос был взволнованный, негромкий. Старший сын, Капелюша, рядом стоял, растерянно крутил головой, ловя звуки.
– Никак стряслось что?
Теперь и Карина различила: орали бабы как-то не так, визжали, некоторые звали испуганно. Звук шел от дальнего края селища, оттуда, где огороды в лес упираются.
– Может, бабы с Коровьей Смертью схлестнулись? – высказала догадку Карина.
Однако вскоре и она явственно уловила среди визжащих женских голосов тяжелый мужской гомон. Мужских голосов было чересчур много, они звучали все громче, яростнее, почти заглушая истошный бабий визг. Неожиданно совсем рядом вдруг послышались грубый окрик, топот, громкое лошадиное ржание. Собака во дворе, до этого заходившаяся лаем, вдруг залилась тонким болезненным визгом, заскулила. И злой мужской голос отчетливо прокричал одно слово, страшное слово: «Жги!»
– Ох, лихо! – простонал вдруг Збуд.
Карина увидела, как он стремительно схватил топор, кинулся, как был, в одной рубахе, к двери. Еле успела броситься наперерез.
– Не ходи!.. – взмолилась, с ужасом понимая, что там, за бревенчатой стеной, страшное – там смерть.
Пока вуй, ругаясь, отрывал от себя ее цепляющиеся руки, Каплюша уже кинулся к двери с луком, распахнул и застыл на пороге. В избу так и ворвались крики, шум, отсветы огня. Кто-то проехал верхом совсем близко, метнул в проем двери зажженный факел. Пламя угодило в юношу, он отскочил, затоптал огонь и, уже не оглядываясь, с криком устремился во тьму. Дверь за ним захлопнулась.
Карина немо уставилась на Збуда. У старосты дергалось лицо.
– В подпол быстро, – процедил сквозь зубы. – Хватай младших детей и прячься.
Она повиновалась. Схватившись за кольцо люка, отбросила тяжелое творило над подполом. Взяв маленького хнычущего Буську, опустила малыша в темный лаз. Семилетний Гудим вдруг заупрямился, стал с плачем метаться по углам, убегая. Гудим всегда боялся мрака подпола, где прячется домовой. Но Карина его все же поймала, почти за волосы подтащила упирающегося мальчишку к лазу, заставила спускаться. Оглянулась – никого более. И Збуд, и четверо его старших сынов, погодков Каплюши, уже выскочили вон, кинулись защищать баб, спасать селище.
Она закрыла за собой лаз. Теперь вокруг был только сырой холодный мрак подпола. Карина ощупала руками бревнышки стенок. Вдоль них обычно стояли короба, кадки, бадейки, в которых хранились запасы, так что молодая женщина с двумя плачущими малышами едва нашла свободное местечко.
– Тише, тише, – шептала Карина, прижимая к себе две детские головки. – А то услышит нас нечисть из лесу и проберется сюда.
Они смолкли, только нервно икали, давясь слезами. Нечисти опасались все – и дети, и сама Карина, однако сейчас она понимала: то, что случилось, – хуже нечисти. Чужие, лихие тати напали на селище, напали, когда ни оборониться, ни упредить нельзя. Смогут ли теперь свои мужики отбиться? Сколько напавших-то? Откуда они?
Карина старалась держаться, даже принялась что-то негромко напевать детям. Вскоре по их ровному дыханию она поняла, что испуганные малыши уснули. Детям и положено спать ночной порой. Если бы не шумный гон Коровьей Смерти, они давно бы почивали на теплых шкурах. Но и сейчас уснули, птенчики, сладко и мирно, она же места себе не находит, сидит, словно каменная, расслабиться не может. Если сейчас поднимут творило наверху, если в отблесках пламени возникнет лютая рожа с окровавленным ножом…