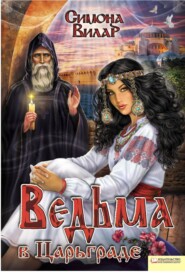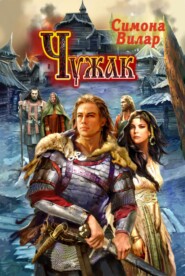По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огненный омут
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эмма могла это понять. В Лив, с ее вызывающей красотой, безвольным лицом и томным взором было нечто настолько откровенно плотское… И Эмме совсем не понравилось, с какой улыбкой оглядел ее муж дочь Ботто. Но с самой Лив она старалась держаться приветливо, хотя и намекнула, что если та решила стать одной из невест Христовых, то она не позволит ей распутничать под своим кровом.
Лив, конечно же, согласилась. Но Эмма не больно-то верила в ее покладистость. Поэтому сразу и проводила гостью в отдельные покои, но довольно резко ответила, когда та стала просить у Эммы примерить ее жемчужную диадему.
– Кажется, тебе это ни к чему. Ты ведь теперь монахиня.
Лив лишь пожала плечами.
– Я сделала это назло отцу. Представляешь, Птичка, он задумал выдать меня за ярла из Котантена, а тот стар, вонюч, да еще и поднял на меня руку, хоть мы еще и не были женаты. А когда я пожаловалась родителю, он сказал, что мне и нужен такой супруг, который сможет меня удержать. Что же мне еще оставалось, как не стать одной из послушниц в обители святого Лупа и принять обет безбрачия?! И теперь ты можешь звать меня сестрой Констанцией. Правда, красивое имя? Констанция. Куда лучше, чем Лив. Ну а мои родители пришли в страшный гнев, когда я стала монашкой. Дома мне просто житья не стало, и когда Олаф сообщил, что едет в Руан, я попросила взять меня с собой. Ты ведь рада нашей встрече?
Когда-то Лив с Эммой действительно были дружны. Но с того времени многое изменилось, и когда вечером на пиру Лив то и дело стала оказываться подле Ролло, Эмма едва сдерживала раздражение.
– И зачем ты только ее привез! – упрекала она Олафа.
Но скальд лишь смеялся. Он поставил себе целью напоить епископа Руанского, и теперь Франкон в съехавшей на ухо митре втолковывал ему тексты Священного Писания. Потом словно опомнился, повернулся к Эмме и сквозь пьяную икоту стал повторять, что на Троицу ей непременно надо быть в Эврё и присутствовать на передаче мощей Святого Адриана.
– А Гийома оставь в Руане, – тыкал он пальцем в ее колено, пока, не потерял равновесие и рухнул к ее ногам. Сегодня он явно был не в том состоянии, чтобы выслушивать речи Эммы о высылке Лив в одну из женских обителей.
Позже, уже в своей опочивальне, Эмма заметила мужу, что он уж слишком много внимания уделял новоявленной «сестре Констанции». Он же, в свою очередь, гневно высказывал ей за Олафа. Эмма опешила.
– Но ведь Олаф – мой лучший друг, он мне как брат. О, Ролло, разве ты забыл, сколько он сделал, чтобы мы с тобой были вместе?
Однако Ролло, оказалось, был разгневан не на шутку, и Эмма из нападающей превратилась в оборонявшуюся. Они долго спорили, сходя на крик, пока Эмма, как всегда во время ссор, не пришла в сильное возбуждение и, гневно глядя на Ролло, не принялась срывать с себя одежду, а потом прямо-таки бросилась на него.
Конунг тотчас же стиснул ее, стал бешено целовать, повалил на шкуры перед камином. Они сошлись, как двое безумцев, изнемогающих от испепеляющего желания: быстро, неистово, зажигательно. Оба нападали и отступали, смеялись и стонали. А когда закончили, Эмма оказалась отчасти сидящей на полу, отчасти вжатой в большой деревянный сундук, а спина Ролло была выгнута дугой. И все же они были довольны, мокрые и усталые благодарно улыбались друг другу. Еле добрались до ложа, заснули, обвив друг друга и больше не думая о ревности. Ролло был доволен уже тем, что Эмма не стала, как всегда, докучать ему разговорами о поездке.
На другой день он увез Олафа показать готовящиеся блоки для осадных башен, стал объяснять их устройство. Скальд усиленно пытался выказать интерес, но проворчал, что викинги редко когда используют подобное и не лучше ли воспользоваться испытанным методом внезапного нападения.
Ролло постарался подавить раздражение. Олафу пора понять, что он замыслил не набег на деревни и усадьбы с частоколом, а настоящую войну, где на пути у них встанут целые города, крепости, окруженные крепкими стенами монастыри. Но, скальд никогда не был стратегом, его интересовали лишь слава и удача, о каких потом можно слагать хвалебные песни.
Поэтому Ролло вскоре перестал брать Олафа с собой, предпочтя решать все с более толковыми помощниками Лодином, Гауком, Эгилем. Но и занятые делами, они порой замечали своему конунгу, что его жена слишком много времени проводит с Серебряным Плащом. То они вдвоем уезжают верхом, то катаются на лодке по Сене и рыбачат, то просто просиживают вместе вечерами, она поет, он что-то сочиняет. Конечно, правила приличия соблюдаются и эти двое никогда не остаются наедине, однако их явная симпатия столь очевидна, что только слепец ее не заметит.
Ролло отмалчивался на подобные речи, но часто, когда он, голодный и усталый, приходил вечером в покои жены, то там было полно людей, лилась музыка, слышались песни, смех. Сезинанда приносила детей, двоих своих и сына Эммы, кормилицей которого она была. И Ролло видел, как его серьезный малыш Гийом улыбался Олафу всеми ямочками, лез к тому на колени, но когда Ролло брал его на руки, начинал хныкать.
– Боги послали тебе отменного сына, – добродушно говорил Олаф, и сердце Ролло оттаивало. Мирная атмосфера, окружавшая скальда и Эмму, невольно передавалась и ему, и он не высказывал неудовольствия, хотя и замечал, как этим двоим хорошо вместе.
Странное дело, он был больше уверен в Олафе, нежели в Эмме. Она не скандинавка, воспитанная в строгости, она кокетлива и падка на лесть. Ролло всегда казалось, что есть в ней нечто изменчивое. Но будь он проклят, он слишком любит ее и такой. И ни разу не ударил, хотя помимо ее кокетства с Олафом, она по-прежнему продолжала упрямо готовиться к поездке в Эврё.
Пришел май. Все вокруг пышно цвело. Франки по традиции отмечали старинный праздник весны, пели и плясали вокруг увитого зеленью майского шеста. У норманнов тоже приближалось время жертвоприношения богу плодородия Фрейу. Обычно они в это время отправлялись к Гауку из Гурне, где располагалось самое большое в Нормандии капище этого божества.
Когда Ролло сообщил, что поедет туда, Эмма только согласно кивнула.
– Что ж, езжай. Но и я уеду. Ты знаешь мои планы: на Троицу я должна посетить Эврё, чтобы встретить посольство с мощами Святого Адриана.
– Забери тебя Локи, женщина! – заорал Ролло. – Или ты совсем глупа, или туга на ухо и не слышала моих приказаний!
Эмма спокойно отложила вышивание.
– Паломники уже собрались в Руане и выступают со дня на день. Я дала слово отцу Франкону, что поеду с ними. Однако возможно я и останусь, но при условии, что ты отошлешь Лив в отдаленный монастырь, где настоятельницей стала наша Виберга.
Ролло вдруг отвернулся. Машинально стал оглаживать квадраты оконного переплета. Эта сладкая Лив преследовала его неотлучно, и ему это нравилось. Диво, что он до сих пор не ответил на ее призыв. Мягкая, податливая, манящая – его словно заволакивало волной этой беспредельной чувственности, когда он обнимал ее в переходах дворца. Глухо бормотал, оглаживая ее тяжелые груди под черным одеянием монахини:
– Если бы все монахини были такими, как ты, мои люди уже давно превратились в христиан. – Ему стоило немалого усилия воли отвести руки. – Но я-то никогда не стану поклонником Христа.
Он оставлял ее, хотя и чувствовал себя круглым дураком. Где это сказано, что конунг не может завести себе наложницу? Он же не только не переспал после женитьбы на Эмме ни с одной другой женщиной, но словно даже опасался этого, не решаясь обидеть ее. А она… Какие слухи ходят о ней?! Эти ее вечера с Олафом… И теперь она требует услать дочь Ботто!
Щелкнув пальцем по переплету окна, он повернулся к Эмме.
– Хорошо. Я ушлю Лив, и тебе только придется посочувствовать твоей бывшей рабыне Виберге, когда дочь Ботто заведет в ее обители свои порядки. Ты же останешься в Руане. И прекратишь порочить себя, бегая за Олафом.
Они не сказали больше друг другу ни слова. Когда вместо обычных вспышек гнева между ними наступало такое молчание, это был первый знак, что они и впрямь в ссоре и меж ними встала стена отчуждения.
Больше всего Эмму удивило, что епископ словно даже обрадовался ее отказу примкнуть к шествию. И хотя Франкон твердил, что это весьма прискорбно, но Эмма была готова поклясться, что он едва не потирал руки от удовольствия. Потом резко посерьезнел, стал говорить, чтобы Эмма непременно проводила паломников до ворот города, и непременно под охраной норманнов, чтобы было ясно, что она остается в городе по воле супруга.
Нелепая просьба. Будто Франкон хотел показать кому-то, насколько языческая жена конунга не вольна в своих решениях.
Но Эмма не видела причин отказывать Франкону, и, когда настало время крестного хода, она прибыла проводить паломников, но среди шума и оживления ей вдруг стало грустно. Франкон благословил ее, не выходя из крытого, устланного коврами дормеза; монахи несли кресты и вышитые хоругви; дьяконы махали кадильницами. Паломники-христиане двигались попарно в простых темных одеждах. У них были просветленные лица, слышалось пение псалмов.
Во дворец Эмма вернулась расстроенная. С Ролло почти не разговаривала. Но и ему было не до нее. Он развернул длинный пергамент и старательно объяснял своим соратникам сложное устройство осадной башни. Его араб предложил неплохую идею устанавливать метательные машины не на одной опоре, а на двух. Это и удлиняло рычаг, и машина становилась гораздо мощнее.
Олаф Серебряный Плащ вскоре начал зевать. Ушел к Эмме, они устроились на скамье за колонной. Олаф что-то декламировал, Эмма подбирала на лире мелодию. Олаф сочинял хвалебную песнь в честь правителя Нормандии, торжественную с повторяющимся припевом. Они говорили о Ролло, но сам предмет их беседы видел, как им хорошо вместе. Замечал, что и другие следят за этой парой, и старался всячески не выказать своего раздражения. А самому в голову лезли странные мысли. Выходит, что любить – это все время нервничать, ревновать, чего-то добиваться. И есть еще вожделение, но разве нельзя его удовлетворить на стороне?
Он пожалел, что услал Лив в монастырь Святой Катерины. Она бы развлекла его и отвлекла от Эммы. А вот сама Эмма была довольна. Проклятье!.. Ей бы пора припомнить, что он сделал для нее, на какую высоту поднял. И может в любой момент ее низвергнуть. Но никогда этого не сделает. Он слишком любил свою рыженькую кокетку жену. И она дала ему законного сына, наследника!
Ролло отправился в детскую к сыну. Гийом сидел на разостланной на полу шкуре и отбирал у сына Сезинанды погремушку. Они были молочными братьями, так как у Эммы (кто бы мог подумать!) с самого начала было мало молока, а Сезинанда словно и ждала, когда ей предложат почетную должность кормилицы.
Конунг взял сына на руки. Тот серьезно глядел на отца. Сердце Ролло затопила нежность.
Эмма пришла в детскую позже. Смотрела на них двоих сияющим взором. Они помирились. Ролло не стал ей ничего говорить об Олафе. Но, когда он ушел, с ней об этом заговорила Сезинанда. Сказала, что весь двор уже судачит о ней и Серебряном Плаще.
Птичка лишь смеялась в ответ. Что ей Олаф? Конечно, он очень мил, с ним легко, к тому же ей нравилось пробовать на нем силу своего очарования. Ведь Ролло сейчас, кроме его похода, ничего не волновало. Поэтому, когда на другой день муж опять оставил ее, она уехала с Олафом на охоту.
Охотничьи угодья Руана начинались за берегами реки Робек, где рос тростник, полностью скрывавший всадника на коне. Эмма, оживленная и беспечная, ехала на горячей гнедой кобыле между Олафом и своим верным стражем Бернардом. Слушала о приготовленной для них на сегодня добыче – матерым красавце-олене, какого выследили в лесу за дальними болотами.
– У него девять отростков на голове, – объяснял Эмме старик-егерь, весь в шкурах, сам словно дикий зверь. – Мои люди выследили его лежбище. Это настоящий король леса.
Охотники были в приподнятом настроении. Загнать такого зверя, считалось мечтой любого. И когда затрубили рога и ловчие спустили собак, все вмиг пришпорили лошадей, охваченные азартом в предвкушении отменного лова.
В воздухе раздавался яростный лай собак, почувствовавших добычу. Временами свора останавливалась и нюхала воздух. После этого охотники трубили в рога, давая отставшим сигнал, что след снова взят, и гонка продолжалась. Вскоре за молодым подлеском в низине показался и сам зверь – огромный, желтовато-коричневый, с темным, не успевшим отлинять, брюхом. Ветвистые отполированные чащей рога короной высились на его голове. Даже на расстоянии было заметно, как напряглись его мускулы, когда, завидев преследователей, он закинул назад свою ветвистую голову и стремглав понесся к дальним зарослям.
– Король лесов! – воскликнул Бернард, пришпоривая коня.
Охотники растянулись. Гонка по лесу представляла собой не только травлю зверя, но и демонстрацию умения ездить верхом. Эмма порой взволнованно и весело взвизгивала, когда приходилось перескакивать через ров или, пригибаясь к гриве лошади, проноситься под склоненными ветвями.
Бернард обогнал ее на спуске, но в следующий миг Эмма тревожно ахнула, когда заметила, как его соловый, споткнувшись, полетел через голову. Попыталась натянуть поводья, но когда увидела, как ее страж, ругаясь и очумело тряся головой, стал поднимать, вновь дала лошади шенкеля, стараясь не отстать от умчавшегося вперед Олафа.
Скальд выехал на недавно расчищенную просеку, по которой несся и стремившийся оторваться от собак олень. Олаф не сводил глаз с его мелькавшей впереди спины. Под ним был хороший конь и всадник получал истинное удовольствие от гона.
Эмма вскоре почти нагнала его, вся в пылу охотничьего азарта. Это было как опьянение, как безумие! Они обгоняли отставших собак, сбегавших с пути ловчих. Теперь главное было выдержать скачку. Они неслись, видя только силуэт добычи. Не сговариваясь оба свернули в лес, когда зверь метнулся через подлесок в сторону. Они не думали, что далеко оторвались от остальных охотников. Лай собак за кустами указывал им направление. Если они сейчас хоть на миг замешкаются, олень уйдет и впечатление от охоты будет испорчено.