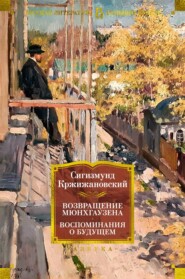По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвращение Мюнхгаузена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С минуту длилось молчание. Потом где-то у стены прохрипела пружина. И гость и хозяин повернули головы на звук: бронзовая кукушка, выглянув из-за циферблата, крикнула девять раз. Кадык Мюнхгаузена шевельнулся.
– Глупая птица жалеет меня. Забавно, не правда ли? К моей омеге она предлагает присоединить свое q – букву, которой математики обозначают несовпадение заданного с данным, неуспех. Но мне не нужен этот птичий подарок: я давно оставил за спиной мирок, в котором неуспех перед успехом, в страданье радость, и в самой смерти воскресение. Оставь себе, кукушка, свое Q – ведь это твое единственное все, если не считать пружины, заменяющей тебе душу. Нет, друг мой Ундинг, циферблатному колесу, кружащему двумя своими спицами, рано или поздно ободом о камень – и крак.
– Вот-вот, – приподнялся поэт, – наши образы пересеклись и, если вы позволите…
Рука Ундинга скользнула в карман пиджака. Но глаза Мюнхгаузена равнодушно смотрели куда-то мимо, вокруг рта его шевелились брюзгливые складки. И листы тетради, хрустнув под пальцами, не покинули своего укрытия. Только теперь Ундингу стало ясно, что человеку, простившемуся с алфавитом, все эти буквы, сцепляющиеся в строфы и смыслы, тщетны и запоздалы. Ладонь гостя вернулась назад и к поручню кресла, и гость понял, что иного искусства, кроме искусства слушать, от него не требуют.
Ветер раскачивал желтой листвой, изредка тыча веткой в окно, под замолчавшей кукушкой размеренно цокал маятник. Барон поднял голову:
– Может быть, вы устали с дороги?
– Нисколько.
– А я вот устал. Хотя и не было никакой дороги, кроме топтания по треугольнику: Берлин – Лондон – Берлин – Баденвердер – Лондон – Берлин – Баденвердер. И все. Вас, может быть, удивляет выключение из маршрутов Москвы?
– Нет, не удивляет.
– Прекрасно: я знал – вы поймете меня с полуслова. Ведь как ни разнствуют наши взгляды на поэтику, мы оба не умеем не понять: нельзя повернуться лицом к своему «я», не показав спину своему «не я». И, конечно, я не был бы Мюнхгаузеном, если б задумал искать Москву… в Москве. Для людей смысл – некие данности, в которые можно войти и выйти, оставив ключ у швейцара. Я всегда знал лишь созданности, и прежде чем войти в дом, я должен его построить. Ясно, что, приняв задание «СССР», я тем самым получал моральную визу во все страны мира, кроме СССР. И я отправился в мой старый, тихий Баденвердер, вот сюда – к тишине и к книжным полкам, где я мог спокойно задумать и построить свою МССР. Выскользнув из всех глаз, я ввил себя в глухой и тесный кокон, чтобы после, когда придет мой час, прорвать его и бросить в воздух пеструю пыльцу над серой пылью земли. Но если уточнять метафору, крылья летучей мыши лучше прирастают к фантазии, чем бабочкины крылышки. Вам, конечно, известен опыт: в темную комнату, где от стены к стене нити и к каждой нити подвешено по колокольчику, впускают летучую мышь: сколько бы ни кружила, прорезывая тьму крыльями, птица, ни единый колокольчик не прозвенит – крыло всегда мимо нити, мудрый инстинкт продергивает спираль полета сквозь путаницу преграды, оберегая крылья от толчков о не-воздух.
И я бросил свою фантазию внутрь темного и пустого для меня четырехбуквия: СССР. Она кружила от знака к знаку, и мне казалось, что ни разу крылья ее не зацепили о реальность, фантазмы скользили мимо фактов, пока не стала выштриховываться небывалая страна, мир, вынутый из моего, Мюнхгаузенова, глаза, который был, на мой взгляд, ничем не хуже и не тусклее мира, втискивающегося своими лучами насильно извне внутрь наших глаз.
Я работал с увлечением, предвкушая эффект, когда сооружение из вымыслов, взгроможденных друг на друга, закачавшись, рухнет на лбы моих слушателей и читателей. О, как должны будут развесить рты лондонские зеваки, пялившие глаза на зеленые спирали моих бобов, когда я вовью их умы в пестрые спирали фантазмов.
Одно лишь обстоятельство путало образы и беднило композицию: теперь, как и всегда, готовясь вчеканить в чужие мозги мои фантасмагоризмы, я должен был отыскивать наклон и скат от высокого вымысла к вульгарному вранью, единственно доступному глазам в наглазниках, мутным шестнадцатисвечным мышлениям, воображению короткого радиуса. Пришлось, как всегда, притушить краски, затупить острия, взять за основу ткани обиходные бредни привычных людям газет, оставив за собой лишь уток. Так или иначе, когда Россия была докомпонована, вот эта спиральная лестничка вернула меня людям. Результат моих выступлений вам известен.
Я снова попал в круг из втаращенных в меня глаз, подставленных под каждое мое слово ушей, ладоней, протянутых за рукопожатием, милостыней или автографом. Давнишнее раздражение художника, принужденного двести лет кряду снижать форму, на этот раз как-то особенно сильно заговорило во мне. Когда же они наконец поймут, эти хлопочущие вокруг меня существа, думал я, что мое бытие – лишь простая любезность. Когда они увидят и увидят ли когда, что мои чистые вымыслы приходят в мир за изумлениями и улыбками, а не за грязью и кровью. И так всегда у вас на земле, мой Ундинг: мелкие мистификаторы все эти Макферсоны, Мериме и Чаттертоны, смешивающие вино с водой, небыль с былью, возведены в гении, а я, мастер чистого, беспримесного фантазма, ославлен, как пустой враль и пустомеля. Да-да, не возражайте, я знаю, только в детских комнатах еще верят старому дураку Мюнхгаузену. Но ведь и Христа поняли только дети. Что же вы молчите, или вы брезгуете спорить с запутавшимся в своих путаницах путаником. Вот она, горькая плата земли: за мириады слов – молчание.
Ундинг отыскал глазами глаза и тихо погладил сухие костяшки рук Мюнхгаузена: в лунном камне на выгнувшемся крючком пальце вдруг снова заворошился тусклый и слабый блик. Мюнхгаузен перевел частое дыхание и продолжал:
– Простите старика. Желчь. Впрочем, теперь вам будет легче понять тогдашнее мое состояние раздражения и натяженности нервов. Достаточно было малейшего толчка… толчок не заставил себя ждать. Вы помните нашу берлинскую беседу, когда я, указывая на крючья моего шкафа…
– Предсказали, – подхватил Ундинг, – что рано или поздно ваши камзол, косица и шпага, лежа на парчовых подушках, отправятся в Вестминстерское аббатство.
– Вот именно. И вы можете представить себе мое изумление, когда в одно проклятое утро, распахнув окно, я увидел всю эту ветошь, – сорвавшись с крючьев на парчу, она плыла над головами толпы прямо на Вестминстер. Первый раз за двести лет я сказал правду. К щекам моим хлынула краска стыда и в ушах звенело, как если б крыло летучей мыши задело за нить колокольчиком. Ха. Фантазм ударился о факт. Шок был так неожидан и силен, что я не сразу овладел собой. Эти дураки, шумевшие за окном, разумеется, ничего не поняли. Удивляюсь, как их попы не канонизировали мою туфлю, включив и ее в свой реликварий.
Весь остаток дня я провел над черновыми листами книги, посвященной СССР. Теперь уже мне казалось, что то тот, то этот абзац грешит против неправды; много строк попало под перечерк пера, но, раз заподозрив себя в правдивости, я – вы понимаете – не мог успокоиться, и в каждом слове мне чудилась вкравшаяся истина. К вечеру я отодвинул искромсанную рукопись, и тяжелое раздумье овладело мной: неужели я заболел истиной, неужели эта страшная и стыдная morbus veritatis,[17 - Болезнь правдивости (лат.).] осложнящаяся или в мученичество, или в безумие, пробралась и в мой мозг? Пусть припадок был коротким и не сильным, но ведь и все эти Паскали, Бруно, Ньютоны тоже начинали с пустяков, а потом – брр… острое в хроническое, «hipotesas non fingo».[18 - Гипотез не строю (лат.).]
После двух-трех дней колебания я понял и решился: отбросив путаницу домыслов и сомнений, сравнить портрет с оригиналом, страну, вынутую из расщепа моего пера, с доподлинной, защепленной в своих границах страной. Покинув Лондон, я вернулся сюда, в мое уединение. В пути я задержался лишь на несколько часов в Берлине: необходимо было ликвидировать мою дипломатию и обеспечить себе покой и невмешательство. Я отослал им все их полномочия, присоединив письмо, в котором заявлял, что на первую же попытку раскрыть тайну моего местопребывания отвечу раскрытием их тайн. Теперь я мог быть спокоен: сыск не допустит меня разыскать, да и число любопытствующих, я думаю, с каждым днем падает: слава, как и Мюнхгаузенова утка, сложила крылья и никогда больше их не расправит.
Надо было аускультировать рукопись и приниматься за ее лечение. При помощи двух-трех подставных лиц я затеял переписку с Москвой, мне удалось достать их книги и газеты, пользуясь сравнительным методом, сочетать изучение внутрирубежной России с зарубежной, пресса и литература которой у нас всех под руками. Берясь за систематическую правку рукописи, я твердо решил там, где рассказ и действительность параллельны, поступать, как музыкант, наткнувшийся при чтении партитуры на параллельные квинты.
Понемногу материал стал притекать и накапливаться: далекое оттуда бросало сотнями конвертов вот сюда, – Мюнхгаузен протянул палец к затененному углу библиотеки, где спинкой в книжные корешки, выгнув, будто под тяжким грузом, тонкие ножки, стоял старинный бювар, – да, сотнями конвертов и каждый из них, чуть ему разрывали рот, начинал говорить такое, что… но, может быть, вы думаете, я преувеличиваю: увы, болезнь отняла у меня даже и эту радость. Взгляните сами. Вот.
Ведя за собой Ундинга, Мюнхгаузен подошел к бювару и откинул покатую крышку: под ней белела груда вскрытых конвертов; сквозь окна марок, пестревших поверх, выглядывали маленькие человечки в красноармейских шлемах и рабочих блузах. Пальцы Мюнхгаузена, разворошив груду, выдернули почтовый листок наудачу. За ним другой и третий. Еще и еще. Перед глазами Ундинга замелькали чернильные строки. Длинный ноготь Мюнхгаузена, прыгая с листка на листок, влек за собой внимание читавшего:
– Ну вот, хотя бы здесь: «Геноссе Мюнхгаузен, по интересующему вас вопросу о голоде в Поволжье спешу вас успокоить: сведения, данные вашей лекцией, нe столько неверны, сколько неполны. Действительность, я бы позволил себе сказать, несколько превзош…» Как вам понравится? Или вот это: «Уважаемый коллега, я и не знал, что погашенный рассказ о непогашенной луне является отголоском факта, имевшего место с вами на пути от границы к Москве. Теперь для меня ясно, что автор рассказа, своевременно погашенного, мистифицировал читателей относительно источника такового, вся же правда – от слова до слова – принадлежит вам и только вам… Позвольте мне, как писатель писателю…» Какая фантастическая глупость: мне бы никогда такой и не придумать. Или вот: «…а что до пустого постамента, то такой есть. Только никакого Мюнхгаузена, позвольте доложиться, на нем не стояло, а сидел – дня три или четыре – папье-машевый царь Александр, да и того веревками слезли, и где было пусто, там и теперь пусто, и будет ли что другое, того не знаем. И надпись про на-соплю была, сам видел, только теперь, как у нас строительство, закрасили. А еще ежели вам сомнительно…» – ну и так далее. Лучше вот это, – ноготь побежал по строкам, – прочли? И вот тут. Мог ли я думать? Нет, вы скажите, что это: я сошел с ума, или…
Ундинг еле успел отдернуть пальцы, – крышка бювара звонко захлопнулась, и задки туфель гневно зашлепали от бювара к креслу. Повернувшись, Ундинг увидел: Мюнхгаузен сидел, спрятав лицо в ладони. И прошла долгая пауза, прежде чем двое вернулись к словам.
– Добило меня книгами их эмигрантов. Сочиняя свою историю о московских спудах и пророке, я не знал, что найдутся люди, которые так легко перефантазируют меня и посмеются над исписавшимся выдумщиком. Я не завидую, но мне грустно, как может быть грустно старому обезлистевшему дереву, которое погибает, теснимое отовсюду буйной юной порослью.
Но давайте без лирики. Можно б было продолжать ревизию, но с меня было достаточно. Я видел: факты в основном контуре стали фантазмами, а фантазмы фактами, и тьма вкруг летучей мыши звенела тысячами колокольцев; каждый удар крыла о нить, вкруг каждого слова, каждого движения пера – изнизанный звоном смеющийся воздух. Я и сейчас это слышу. И в яви, и во сне. Нет-нет. Довольно. Пусть распахнут тьму и выпустят птицу: зачем ее мучить, раз опыт сорван?!
– Вы, вероятно, досадуете на меня, вы думаете: зачем вызывал меня – сквозь сотни километров – этот ненужный ни мне, ни себе брюзга, зачем…
– Если б вы знали, как вы для меня единственны, вы бы не говорили так, учитель!
Мюнхгаузен поправил кольцо, соскользнувшее было с иссохлого пальца, и, казалось, улыбался каким-то воспоминаниям:
– Впрочем, не я – болезнь позвала вас. Мог ли я думать, что буду когда-нибудь исповедоваться, рассказывать себя, как старая шлюха в решетку конфессионале, пущу правду к себе на язык. Ведь, знаете, еще в детстве любимой моей книгой был наш немецкий сборник чудес и легенд, который средневековье приписывало некоему св. Никто. Мудрый и благостный der heilige Niemand был первым святым, к которому я обращал свои детские молитвы. В его пестрых рассказах о несуществующем все было иное, иначе, и когда я, тогда еще десятилетний мальчуган, переиначивал его Иначе, пробовал ввести в таинственную страну несуществований моих товарищей по играм и школе, они называли меня врунишкой, и не раз, ратуя за святого Никто, я натыкался не только на насмешки, но и на кулаки. Однако der heilige Niemand воздал мне сторицей: отняв один мир, он дал их мне сто сот. Ведь люди так обделены миром: он дан им всего лишь в одном экземпляре на всех, бедняги ютятся все и всегда в своем одном-единственном, – а я уже в юности получил в дар многое множество вселенных – и притом на себя одного. В моих мирах время шло быстрее и пространство было пространнее. Еще Лукреций Кар спрашивал: если пращник, ставший у края мира, метнет свой камень, где упадет камень – на черте или за чертой? Я тысячу раз дал ответ, потому что моя праща – лишь за пределы существующего. Я жил в безграничном царстве фантазий, и споры философов, вырывающих друг у друга из рук истину, казались мне похожими на драку нищих из-за брошенного им медного гроша. Несчастные и не могли иначе: если каждая вещь равна себе самой, если прошлое не может быть сделано другим, если каждый объект имеет один объективный смысл и мышление впряжено в познание, то нет никакого выхода, кроме как в истину. О, как смешны мне казались все эти ученые макушки, унификаторы и постигатели: они искали «?? ??? ???», «единое во многом», и не находили, а я умел найти многое в одном. Они закрывали двери, притискивая их к порогам сознаний, – я распахивал их створами в ничто, которое и есть все; я вышел из борьбы за существование, которая имеет смысл лишь в темном и скудном мире, где не хватает бытия на всех, чтобы войти в борьбу за несуществование: я создал недосозданные миры, зажигал и тушил солнца, разрывал старые орбиты и вчерчивал в вселенную новые пути; я не открывал новых стран, о нет, я изобретал их; в сложной игре фантазмами против фактов, которая ведется на шахматнице, расквадратенной линиями меридианов и долгой, я особенно любил тот означенный у шахматистов двуточием миг, когда, дождавшись своего хода, снимаешь фантазмом факт, становясь не-существующим на место существующего. И всегда и неизменно фантазмы выигрывали – всегда и неизменно, пока я не наткнулся на страну, о которой нельзя солгать. Да-да, на равнинный квадрат меж черных и белых вод, заселенный такой неисчислимостью смыслов, примиривший в себе столько непримиримостей, разомкнувшийся в такие дали, которых не передлиннить никаким далее, выдвинувший такие факты, что фантазмам остается лишь – вспять. Да, Страна, о которой нельзя солгать! Мог ли я думать, что этот гигантский красный ферзь, прорвав линию моих пешек, опрокинет всю игру: помню, как он стоял под ударами чуть ли не всех моих фигур; с победно бьющимся сердцем, я по-наискосу ферзя пешкой, и напрочь; но не успела улыбка до моих губ, как я увидел, что пешка моя, непонятным образом вспучившись и развалившись, превратилась в только что сброшенного красного ферзя. Такое бывает лишь в снах: втягиваемый кошмаром, я схватился за встопыренную гриву своего коня и, проделав зигзаг, снова сшиб алого ферзя с доски; я слышал – он грохотал, падая гигантскими зубцами оземь, и из пустого места опять он, подымающий над меридианной сетью кровавые зубцы; я рокировался и по-прями турой; снова грохот рухнувшего и снова превращение; в бешенстве я ударил по проклятой клетке косым ходом леуфера: опять! И я увидел, мои клетки пустуют, король брошен под шах, а неистребимый красный ферзь есть, где был, на вскрытом раззвездье линий. Теперь настал миг, когда мне нечем ходить: все мои фантазмы проиграны. Но я и не подумаю сдаваться: в той игре и в тех масштабах, в каких мы ее ведем, если не с чего, так с себя. Я уже пробовал когда-то, взяв себя за темя, выдернуться из кочкастого болота. Что ж – ход самим собой: проигранному игроку больше ничего не остается, и я не слишком цепляюсь пятками за землю. Но мой цейтнот истекает. Пора. Оставьте меня, друг. Если вы подлинно мне друг.
Ундинг сначала поднял тяжелеющие веки, потом себя: он искал прощальных слов и не находил их. Но нельзя же было так отслушать и уйти, как если бы и не слышал. Он обежал глазами комнату: ряды притиснувшихся друг к другу книжных корешков, диск циферблата в бронзовой оправе, защелкнувшаяся крышка бювара, в углу не замеченная им раньше подставка для чубуков, на подставке старая, обездымевшая трубка, и тут же рядом, свесясь со спинки кресел, рукавами в землю, тот старый, сбежавший из Вестминстера камзол. Ундинг, глядя в сморщенные лопатки камзола, спросил:
– Как? Разве вы его не отослали, как это писалось в газетах, какому-то молодому ученому в Москву?
– Камзол может еще пригодиться и мне, – послышался уклончивый ответ, – а об ученом бедняке из Страны, о которой не солгать, не беспокойтесь. Ему посланы, в виде компенсации, мои черновики, если он владеет хотя бы ножницами и клеем, рукопись поможет ему выбиться на литературную дорогу.
Хозяин и гость простились. Обернувшись еще раз с порога, Ундинг видел: из-под сдвинувшейся на лоб шапочки барона выглядывала тщательно заплетенная, отрастающая длиннящимися седыми нитями косица.
Скрипучая витуша снова закружила медленные шаги уходящего.
Глава VIII
Истина, уклонившаяся от человека
Михель Гейнц оттянул вожжи, и колеса стали. Подножка, потом обитые ступеньки станционного домика. Ундинг поднял глаза к вправленному в стену циферблату и подумал: «Надо поправить метафору в циферблатном колесе, – как спицы ни кружи, обод всегда недвижен». И тотчас же сквозь мозг длинная череда образов. Встречи с Мюнхгаузеном (это испытывал на себе не только Ундинг) всегда частили и четчили пульс идей и давали полный – до отказа – завод фантазии. И под мерный стук и качание вагона карандаш Ундинга не отпускал пальцев, мчался по синей линейке, намечая контур новой поэмы. Поезд уже подъезжал к Берлину, когда было отыскано и заглавие: «Речь к спинкам стульев». Бывают и на корабле слов катастрофические миги, когда душа свистит «всех наверх», и отовсюду – с укачивающих коек, из-за закрытых дверей и даже из темного трюма – заслышавшие сигнал слова торопятся на поверхность бумажных страниц, то подымающихся, то падающих, как палуба в бурю: поглощенный работой, Ундинг пропустил Фридрихштрассе-бангоф и, высадившись на Моабите, шел сквозь город, не слыша из-за звона своих строф ни стука колес, ни гомона людей.
Только добравшись до порога комнаты с именем Эрнста Ундинга на наружной доске двери, поэт вспомнил, кто он и где он.
Затем глубокий сон перевел стрелку часов на девять часов вперед. Свесив ноги с постели, Ундинг втолкнул их в ботинки, но зашнуровать не успел: нахлынувшее в память вчера овладело отдохнувшим сознанием. Перипетии поездки в Баденвердер предстали ему во всей их непоправимости. «Если я ехал помочь, – забередило в мыслях, – то почему я молчал? Разве можно помочь молчанием?» У изголовья лежала вчерашняя запись; Ундинг, скользнув глазами по карандашным каракулям, горько усмехнулся: «Ведь вот, заговорил же я со спинками стульев, но почему не с человеком». Однако слова рукописи зацепились уже за зрачки, и поэт не заметил, как недосказавшиеся строфы снова притиснули пальцы к бумаге, и воля поэмы стала его волей: опять стал виден воображаемый зал, в перспективу которого уходили бесконечные ряды деревянных существ и у каждого – и спереди и сзади – спина на четырех неподвижных выгибах ног; глядя в тесно сомкнутые шеренги, поэт бил словами по мертвым спинам, отдаваясь пафосу безнадежности; он говорил о неслышимости всех мыслей, захотевших стать словами, и об игре глухого Бетховена на клавикордах, из-под молоточков которых вывинчены струны; он восхищался благородной откровенностью своих неслушателей и ставил их в образец людям, которые трусливо скрывают, что и они, откуда к ним ни подойди, лишь спины на ввинченных в землю ногах; от строфы к строфе, разгораясь горечью и гневом, он писал… но нехорошо заглядывать через плечо лирического поэта, когда он обращается не к тебе, а к спинке своего стула.
Так или иначе, только к сумеркам, когда воздух стал под цвет графитным строкам, поэма была вчерне закончена и карандаш отпустил пальцы. Ундинг не ел весь день; набросив пальто, он вышел на вечернюю улицу и толкнул дверь ближайшей бирхалле: при помощи ножа, вилки и пары челюстей проголодавшийся лирик быстро справился с порцией сосисок; от капусты остался лишь легкий капустный запах, а шпигельайер тщетно пялил желтые глаза, умоляя о пощаде. Прогнав первый приступ голода, Ундинг протянул руку к кружке пива, пододвинул ее к себе, и вдруг пальцы его отдернулись от стеклянной ручки: на поверхности напитка, налипая на граненые края, вспучивались и лопались крохотные пузырьки пены: точь-в-точь как те, которые несколько лет тому познакомили его с Мюнхгаузеном. Теперь, когда припадок эгоизма, который историки искусства называют «вдохновение», прошел, образ оставленного друга вшагнул в самый центр сознания и стал неотступным. Ундинг в эту ночь долго ворочался на горячих подушках, пока не дождался сна. Но в сон пришло сновидение: низкий потолок, подпертый кипами книг; позади тихий птичий шаг; Ундинг оборачивается – по поверхности письменного стола, осторожно подбирая пятки, крадется пузырь на утиных лапах; Ундинг хочет бежать, но ноги у него из дерева и ввинчены в пол; надо не позволить омеге зайти за спины, – это-то он твердо помнит, – но ведь и сзади спина, и спереди спина – отовсюду; и пузырь, растягивая одетые в бег бликов вспучины, раздувается – еще и еще – уже стол, а там и книги, потолок, вся комната и он, Ундинг, в пузыре, – утончающиеся вспучины растягиваются, еще сейчас… разрыв – и в смерть: Ундинг сжимает веки и видит себя… с раскрытыми глазами на постели. Сквозь переплет окна – рассвет.
В течение всего дня беспокойство нарастало. Брал ли Ундинг в руки газету, вписывал ли в блокнот очередные распоряжения заведующего конторой «Веритас», сквозь всю суету ему виделся человек с лицом, запрятанным в пергаментные ладони; свесившаяся с макушки косица, медленно длиннясь, казалось, угрожала чем-то непоправимым. И снова в числе пассажиров вечернего поезда Берлин – Ганновер был Эрнст Ундинг.
Михель Гейнц, разбуженный стуком и голосом, опять, как несколько дней тому, выкатил на своем деревенском возке; Ундинг ногой о подножку, и колеса завертелись в сторону Баденвердера. На этот раз было чуть холоднее, и, глядя на медленно располыхивающуюся зарю, Ундинг слышал, как под ударами копыт то и дело лопалась и хрустела льдистая перепонка луж. Когда из утреннего тумана замаячили навстречу колесному стуку брошенные в небо ладони ветряных мельниц, мозг задело внезапной мыслью: «А что, если все, рассказанное бароном в последний раз, мистификация, самая причудливая и ловкая из всех мюнхгаузиад?!» Ундинг представил себе смеющееся лицо баденвердерского отшельника, довольного, что ему удалось поймать на озорство, заставить поверить в невероятное. Ундинг уже не чувствовал холода, сердце его стучало быстрее, но колеса все так же медленно. В нетерпении он нагнулся к вознице:
– Нельзя ли разбудить лошадей, герр Гейнц?
Михель вытянул бич, и экипаж свернул на боковую дорогу. Вспугнутая стая уток с отчаянным кряканьем шарахнулась из-под зачастивших копыт; под колесами что-то хрястнуло: Ундинг оглянулся – одна из уток, очевидно, не успела: впластав в землю крылья, она вытянула поперек пути обездвиженную ободом шею. Взяв разгон, возок Гейнца весело перекатил через холм и грохотал уже о бревна моста, когда Ундинг вскрикнул: «Стойте!»
В растуманившемся утре на берегу озера виднелась группа людей, наблюдавшая за ходом лодки, медленно плывшей вдоль озера: в лодке сидело четверо, в руках у них были багры; то ныряя, то выныривая, багры ощупывали дно. Среди столпившихся Ундинг различил сутулую фигуру старика-дворецкого; тот, обернувшись на шум колес, очевидно, тоже узнал гостя и торопливо, поскольку позволяла старость, направился к мосту. Не в силах дожидаться, Ундинг выпрыгнул из экипажа и поспешил навстречу дворецкому:
– Случилось недоброе? Говорите.
Старик понурил голову:
– Вот уж второй день, как господин барон исчез неизвестно куда. Я поднял на ноги всех слуг. Мы обыскали дом, парк, лес, теперь обыскиваем дно. Нигде.