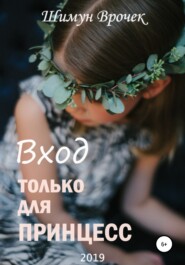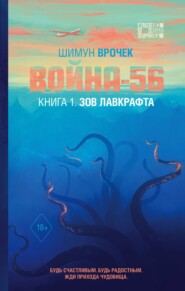По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мое советское детство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А потом пошел дождь. Мы едем сквозь водяную стену. По железной крыше бешено стучат капли. Мне становится страшно, потому что когда "урал" влетает в очередную лужу, на стекло летит вода – это как огромный грязный плевок. С громким "стук!" он шлепается на лобовое стекло. Становится темно и страшно. Дворники тут же прочищают в грязи треугольные сектора, но видно все равно плохо. Надсадно ревет обдув стекол и греет печка, но боковые стекла все равно запотевают. Я протираю ладонью окошко и смотрю. Мокрые зеленые кусты, обочина убегает, дальше все сливается в серый мокрый сумрак. Иногда молния проявляет все, как фотовспышкой. Сердце сжимается. А потом грохочет гром. Дядя с Малышом все еще пересмеиваются, но уже как-то настороженно.
Потом дядя замолкает и пригибается к рулю. Едем молча, сосредоточенно. Я пишу на стекле пальцем "Д И М А", я недавно научился читать и писать.
А потом машина сказала «хррр» и остановилась. Мы сломались.
Дядя с минуту просто сидел, не двигаясь. Потом выматерился и полез наружу. За ним вслед выбрался Малыш. Дверь захлопнулась, отрезав от меня шум дождя.
Проходит время – не знаю сколько. Я сижу в кабине один. Мне холодно и скучно. За окном все одно и тоже – обочина, остальное не разглядеть. Даже молний и грома больше нет, только дождь.
Дворники застыли на лобовом стекле. Как мертвые.
Потом я нащупал ручку и надавил что было силы. Дверь крякнула, точно сломалась. В меня ударила струя холодной сырой свежести. Я вылез на подножку – черный металл, рифленые пупырышки. Сверху меня окатило дождем, я тут же промок. Я в сандалиях на босу ногу, там хлюпает вода. Я спрыгиваю на землю. Выщербленная обочина, по асфальту бегут потоки воды, белые и красноватые камешки, капли разбиваются вокруг них и на них.
Я ныряю под машину и сажусь на корточки. С мокрых волос на лоб стекает вода.
Под грузовиком расстелен кусок брезента, на нем лежит дядя Саша, дождь хлещет вокруг, вода течет по брезенту. Дядя промокший и злой, но спокойный, в темном, промокшем снизу комбинезоне. Рядом в развернутой матерчатой скатке лежат ключи и отвертки. Дядя ковыряется вверху ключом. Меня он не замечает. Я смотрю направо и вижу ноги Малыша. Он что-то там делает под капотом.
– Иди в кабину! – говорит дядя, увидев меня. Ему приходится почти кричать. – Иди, промокнешь!
Впрочем, я и так уже промок.
Позже.
Машина стоит на дороге, я сижу в кабине, дрожу от холода и сырости. Двигатель не работает, поэтому печку не включить. Становится по настоящему страшно.
В кабину залазят Малыш и дядя, и мы пьем чай из зеленого пластикового термоса. Рифленая поверхность термоса, белая горловина. Пластиковая зеленая кружка (это крышка термоса), над ней поднимается пар. Я держу ее обеими руками и продолжаю дрожать. Горячий чай обжигает горло. Дядя с Малышом мокрые насквозь. Меня раздевают и укрывают шерстяным одеялом – оно такое старое и вытертое, что не разобрать узора. Наконец-то тепло. В этом есть что-то сказочное. Пар, поднимающийся над кружками, усталые лица, запотевшие от дыхания стекла. Уютно горит маленькая лампочка над приборной панелью. Рыба-капельница плавает в подсвеченном желтым сумраке. Малыш начинает что-то рассказывать, чтобы развеселить меня, но все это уплывает в туман.
Кажется, я засыпаю.
Потом я слышу, как рядом остановилась большая машина. Шум дождя уже не такой сильный. Сквозь лобовое стекло виден темный силуэт грузовика. Я снова проваливаюсь в сон.
Я просыпаюсь, когда мы едем.
Я даже не сразу открываю глаза, слушая, как негромко переговариваются дядя и Малыш, работает двигатель (починили!), стучит и подскакивает машина. Я ощущаю, что сейчас солнце – даже сквозь закрытые веки.
Потом я открываю глаза. Дождь давно закончился. Светит солнце, полосы лежат на одеяле. Я сажусь. Грузовик мчится в горку, мимо пролетают поля, деревья и стоящие на обочине машины. Красный жигуленок. Все вокруг такое свежее и отмытое, ясное голубое небо с парой маленьких облачков. Мы едем домой.
Потом мы проезжаем Кунгур. Низкие деревянные дома, уютные, выкрашенные в голубой, оранжевый, салатовый цвета. Машин немного. Серая бетонная ограда городской "зоны", высоченная, на вышке стоит, облокотившись на ограждение, часовой с автоматом. Он смотрит на нас равнодушно. Мы едем вдоль забора, поворот налево и "урал" выходит на дорогу, ведущую через весь город к остановке "Пещера". Там, за рекой – горы. Мы их видим. Белые выступы известняка на зеленом фоне.
Потом мы подъезжаем к дому. Это трехэтажный дом из светлого кирпича. На торце вывески – синяя «Хлеб» и белая «Галантерея». Левее дома скопление железных гаражей, выкрашенных бордовой краской.
У входа в «Хлеб» стоит мой дед. Я не знаю, откуда он взялся, может быть, так и стоял здесь, ожидая машину. Но как же дождь? Дед почему-то суровый и натянутый, как корабельный швартов. Русые кудри, рубашка в синюю клетку, штаны от спецовки. Сильные руки. Фуражка из грубой синей ткани.
Он молча смотрит, как мы с дядей вылезаем из машины.
Деду тогда было лет пятьдесят пять. Сильный.
И вот мы идем с дядей к деду. Я хочу рассказать ему все, как было здорово, и как я устал и как хочу есть. А дядя идет какой-то тихий, словно чуть втягивая голову в плечи. Поэтому я ничего не говорю, а просто иду.
И вот мы подходим. Дед не смотрит на меня, а смотрит на дядю. Пристально. Потом делает шаг вперед и бросает что-то резкое и хлесткое, как удар плетью.
Я ничего не понимаю, а дядя сжимается и опускает голову.
– Куда ты его потащил?! – говорит дед. Потом опускает взгляд, кладет мне на плечо руку – крепкая ладонь, под ногти въелась чернота, на тыльной стороне ладони бледно-синяя татуировка – половинка солнца с лучами, на костяшках пальцев бледные буквы "Г О Ш А". Дед после войны служил в Австрии семь лет, танкист, командир танка. Сейчас он сварщик.
Дядя молчит. Дед тогда говорит:
– Пошли, Димулька. Там бабка для тебя пирогов напекла.
Мы уходим. На ходу я оборачиваюсь. Дядя поводит головой, словно у него занемела шея, потом поворачивается и идет мимо луж, в которых отражается небо, к машине. Это зеленый крытый "урал", у кабины стоит и курит Малыш. Тоненькая струйка дыма поднимается в небо. За машиной дорога, дальше – кованая ограда местного стадиона, насмерть заросшая крапивой, репейником и лопухами. Дальше дома из кирпича, беленые; высокие тополя, а над всем этим – горы с тонкой полоской леса на гребне. Кустистые облачка плывут в голубом небе. Пять часов дня. Лето. Урал.
18. Времени больше нет
Время заканчивается. Здесь и сейчас оно изливается с края мира вниз, летит тысячемильным водопадом секунд, минут и дней, лет и веков. Время закончилось, времени больше не будет.
В космической пустоте рассеиваются наносекунды. Время бесконечно, но имеет финал. Время не волна и не частица.
Время не тахион.
Время просто было. И теперь его просто нет.
Меня настигает печаль.
Я боюсь потерять хрупкую, загоревшую до коричневого цвета бука, фигурку отца.
Воспоминания – словно снеговые глыбы, тающие в безбрежном море памяти. Времени больше нет. Времени больше не будет.
Отец сидит на гребне волны в плетеном кресле, голый по пояс, худой, как щепка, выдубленный Кожаный Чулок – Натти Бампо, Соколиный Глаз, его голубые глаза спокойны и отрешенны, и смотрят в никуда, в руке сигарета. Он курит и смотрит в никуда, щурится от дыма, а брызги времени захлестывают его раз за разом. Иногда мне кажется, что до него – рукой подать. Отец сидит, закинув ногу на ногу, наклонившись вперед, оперев локоть о колено, курит и смотрит в бесконечность, щурится по привычке, а я словно смотрю на него, на его отрешенное красивое лицо, в морщинах, с заросшим уродливым вертикальным шрамом над левой бровью (тогда его откачали, отлежался в реанимации и вышел), и надеюсь его не потерять. Снова.
Как мало мы помним. И как много мы забываем.
Брызги времени летят, смывают крыльцо бани за спиной отца, красный кирпич, смывают кусты вокруг и его третью жену, и усталость, и обиды, и что-то еще. Остается только он, мой отец.
В последний вечер, когда я его видел, мы сидели с ним на кухне после бани, пили кофе из кофемашины и смотрели дурацкий фильм "Неваляшка" про боксера-неудачника. И смеялись.
Невозможно быть писателем, если у тебя эйдетическая память. Я так думаю. Воображение на самом деле живет где-то между уцелевшими нейронами, в пустоте, там, где исчезает время. Лев Толстой говорил, что помнит, как его младенцем крестили. Помнит гулкие голоса, летящие под сводом церкви, колеблющиеся огоньки свечей, руки священника, холод воды в купели. Страх и крик. Сомневаюсь. Этот дворец создан силой воображения. Все наши дворцы созданы воображением.
Мы строим воздушные замки на фундаменте из снеговых глыб, а бумага превращает их в бетонные столбы, вбитые в дно океана.
И за всем этим стоит страх.
Страх все забыть.
Времени больше нет. Времени больше не будет.
Поэтому мы находим два-три, от силы десяток уцелевших нейронов, которые, возможно, были в той церкви и в той купели, и присоединяем к ним тысячи и тысячи других, которые никогда там не были, и наводим между ними связи, крепи, канаты, протягиваем цепи. Сплетаем силой воображения и эти руки, держащие нас над водой, и качающееся в воде отражение младенческого тела, и густой бас священника над головой, и порыв сквозняка, когда на мгновение приоткрыли дверь, и колыхание свечей в тот миг, и изменившиеся лики святых, и запах ладана и масла, и ощущение теплой капли, стекающей по лбу… И страх и крик, мечущийся под куполом. И белый голубь, медленно и беззвучно плывущий в далекой синеве купола…
И мой отец, сидящий у крыльца бани.